Модернизм и модерн: «Как отличить модерн от модернизма в архитектуре?» – Яндекс.Кью
Модерн, модернизм, постмодернизм (к определению понятий) Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»
№ 3 / 2015
ISSN 2410-6070____
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 930.85
Е.В.Бранская
к.ф.н., доцент кафедры философии Санкт-Петербургского экономического университета, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
М.И.Панфилова к.ф.н., доцент кафедры философии Санкт-Петербургского экономического университета, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
МОДЕРН, МОДЕРНИЗМ, ПОСТМОДЕРНИЗМ (К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ)
Аннотация
В статье раскрывается содержание понятий «модерн», «модернизм» и «постмодернизм».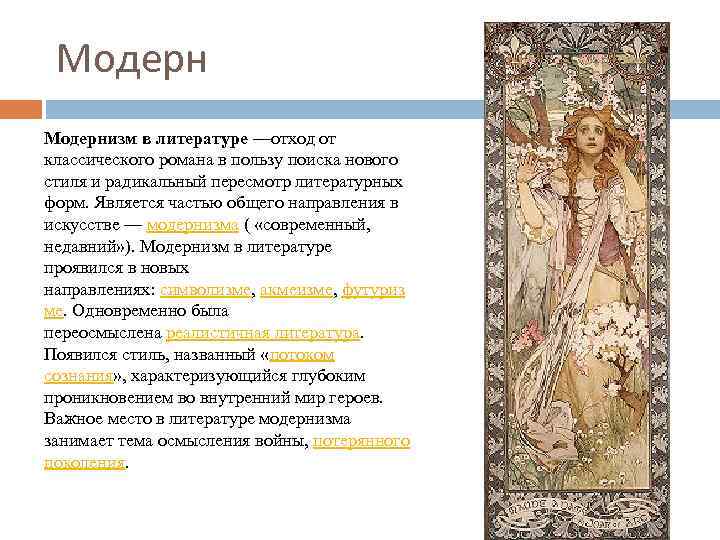
Ключевые слова
история культуры, искусство, модерн, модернизм, постмодернизм.
В современной научной и учебной литературе понятия «модерн», «модернизм», «постмодернизм» используются в разнообразных значениях, что нередко порождает недоумения и разногласия. В одних случаях они служат для наименования стилей искусства, в других — обозначают этапы истории современной западной культуры. Если с постмодерном (при адекватном понимании контекстов) все более или менее ясно, то о модерне и модернизме этого не скажешь. Термин «модерн», например, может означать современность (наши дни) и современность как эпоху, начавшуюся либо в Новое время, либо в Новейшее. По-разному он соотносится и с понятием «модернизм»: модерн фигурирует то как самостоятельный тип культуры, сложившийся на рубеже XIX-ХХ вв.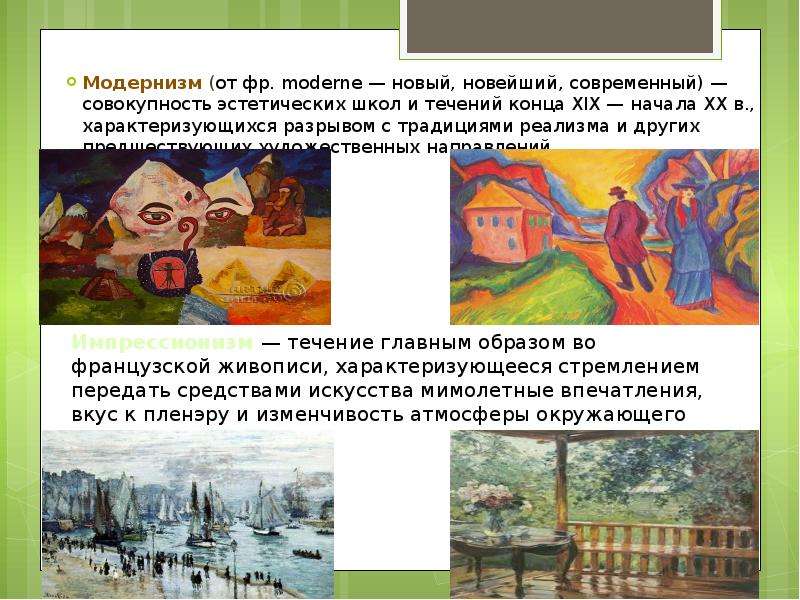
Итак, модерн, модернизм, постмодернизм, — сколь бы ни условно было деление современной культуры на такие этапы, оно позволяет выявить в необозримом многообразии событий, имен, произведений, определенную логику. Мы полагаем, что это различные этапы культуры со своими признаками, типологическими особенностями. Для них характерно различное отношение к традиции, понимание задач творчества, мировоззренческие установки и эстетические проекты. В рамках этих типов культуры существуют и соответствующие художественные стили.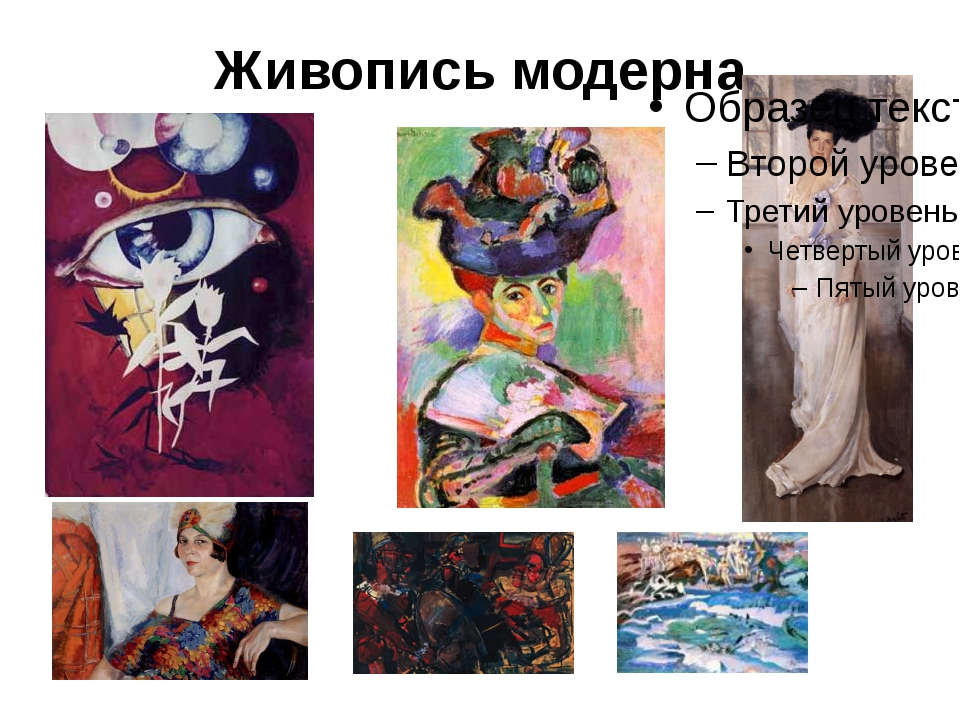
Культура модерна, сложившаяся во второй половине XIX — начале XX вв., ознаменовала ситуацию перехода западной культуры из одного состояния в другое — из Нового времени в современность. В различных странах приняты разные наименования Модерна, однако разнообразные национальные формы этой культуры несут в себе одну и ту же идею — это романтический замысел сотворения пространства красоты, в котором можно укрыться от серой повседневности. Эта идея допускала двойственное толкование. С одной стороны, искусство понимали как уединенный и замкнутый на себя мир (принцип эстетизма), с другой — как деятельность, призванную преобразить жизнь, наполнив ее красотой.
— 264 —
____________________________МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»
источников. Свобода в обращении с традицией, мысль о том, что возможны разнообразные формы эстетического опыта, и все они в равной мере ценны, — вот в чем заключалось новаторство модерна.
Французское наименование модерна «fin de siecle» («конец века») выражает свойственные закату эпохи душевную усталость, меланхолию. Мировоззрение модерна символично, оно тяготеет к таинственному, запредельному. Для модерна характерно стремление к разнообразным синтезам. В этой культуре границы между искусством, литературой, философией, богословием оказались размытыми. Модерн называли «стилем жизни», поскольку он стремился формировать целостную пространственно-временную среду обитания человека, используя для этого синтез различных искусств. Основой синтеза изобразительных и декоративноприкладных искусств обычно выступала архитектура.
Мировоззрение модерна символично, оно тяготеет к таинственному, запредельному. Для модерна характерно стремление к разнообразным синтезам. В этой культуре границы между искусством, литературой, философией, богословием оказались размытыми. Модерн называли «стилем жизни», поскольку он стремился формировать целостную пространственно-временную среду обитания человека, используя для этого синтез различных искусств. Основой синтеза изобразительных и декоративноприкладных искусств обычно выступала архитектура.
В наименовании модерна присутствует идея новизны, обновления, противостояния консерватизму. Смелые и неожиданные сочетания жанров, стилей, материалов оправдывают его название. Тем не менее, модерн, творчески переосмысливший всю историю культуры, опирался на традицию, он глубоко укоренен в прошлом. Иное дело модернизм, разрывающий связь времен.
Принципиальное различие модерна и модернизма проясняется, в частности, в полемических выступлениях А. Н.Бенуа против «крайних новаторов». Французский кубизм, итальянский футуризм, различные направления русского авангарда (термин, вошедший позже в широкое употребление, принадлежит именно ему) критик считал кратковременными модными явлениями, не способным создать целостного стиля эпохи, поскольку в них утрачены ориентиры творчества, нет общей цели, нет сплоченности. А.Н. Бенуа как идеолог модерна призывал к профессионализму, классическим традициям, высокой красоте.
Н.Бенуа против «крайних новаторов». Французский кубизм, итальянский футуризм, различные направления русского авангарда (термин, вошедший позже в широкое употребление, принадлежит именно ему) критик считал кратковременными модными явлениями, не способным создать целостного стиля эпохи, поскольку в них утрачены ориентиры творчества, нет общей цели, нет сплоченности. А.Н. Бенуа как идеолог модерна призывал к профессионализму, классическим традициям, высокой красоте.
Модернизм (авангардизм) — условное название всех новейших экспериментальных направлений в художественной культуре XX в. Конструктивизм, абстракционизм, дадаизм, кубизм, фовизм, орфизм, оп-арт, поп-арт, пуризм, сюрреализм, — вот далеко не полный их перечень. Несхожие друг с другом и находившиеся подчас в непримиримом антагонизме, все эти направления близки в понимании сути творчества и строятся на основании ряда общих предпосылок. Следуя В.Г. Власову [1], назовем его основные принципы.

Революция в искусстве была родственна революции в науке, причем это хорошо сознавалось художниками и теоретиками искусства. «Исчезновение материи» в ходе опытов по расщеплению атомного ядра и отказ от предметности в живописи — явления, рожденные одной эпохой. Принцип дополнительности, выдвинутый неклассической наукой, допускал правомерность различных видов научного описания объекта и утверждал, таким образом, относительность истины. В искусстве авангарда разнородные художественные течения развивались параллельно, и при этом воспринимались как равноправные. Неклассическая наука предпола вхождение субъекта познания в само знание в качестве его необходимого компонента. В художественном творчестве этот принцип реализуется более радикально — как полное торжество субъективизма без опоры на внешнюю предметность.
— 265 —
№ 3 / 2015______________________________ISSN 2410-6070_____________________________________________
категория. Однако для целостной характеристики культуры этого времени обычно употребляют понятие «современная», причем точкой отсчета современности многие историки и культурологи считают 1914 год.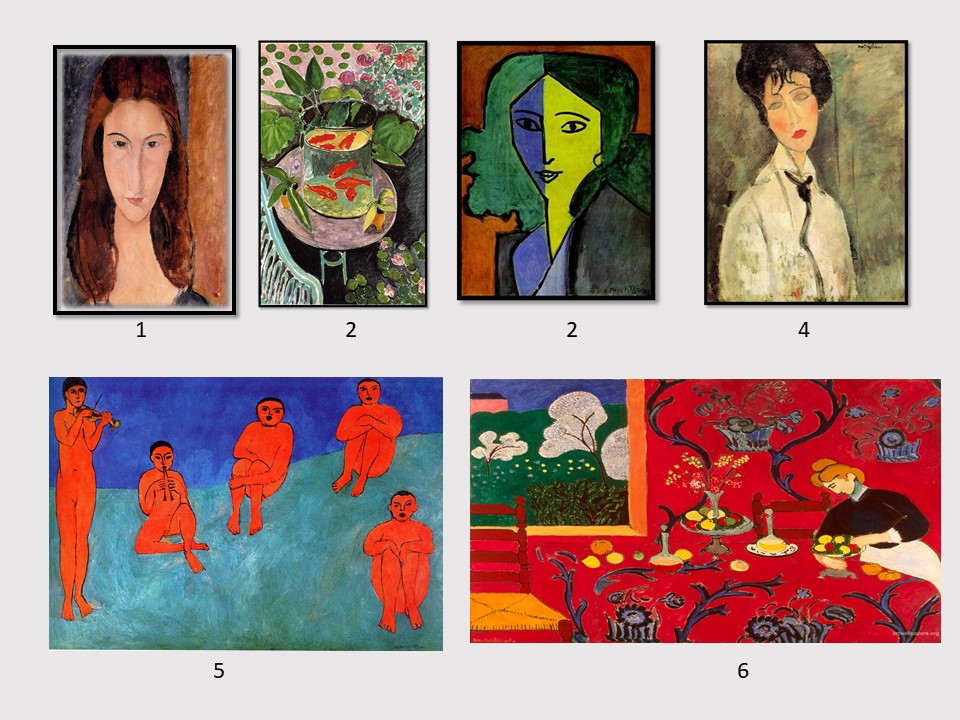
В 60-70 гг. ряд писателей и философов возвестили о наступлении эпохи постмодернизма. Сам термин много проясняет в природе этого явления. В движении модернизма наступил некий предел, когда его ресурс оказался исчерпанным, когда идти дальше стало некуда. Таким пределом стал концептуализм. «Постмодернизм — это ответ Модернизму: раз прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивности» [2, с.469], — пишет Умберто Эко. Постмодерн называют культурой цитат. Все, что можно было создать, уже создано человечеством, и поскольку ничего принципиально нового не создается, то созданное «цитируется», комбинируется, интерпретируется. Разыскиваются новые смыслы в том, что уже казалось осмысленным и понятным. Постмодернистские тексты, — литература, философия, кино, изобразительное искусство с характерными для него жанрами коллажа, инсталляции, перформанса и хеппенинга, сама методика организации художественных акций и выставок, — все это стимулы интерпретаций. Они вовлекают в диалог между авторами и аудиторией. Открытая структура эстетики постмодернизма освобождает человека от насилия со стороны жестких интерпретаций, диктуемых культурой с ее нормами.
Они вовлекают в диалог между авторами и аудиторией. Открытая структура эстетики постмодернизма освобождает человека от насилия со стороны жестких интерпретаций, диктуемых культурой с ее нормами.
Постмодернизм, возникший как феномен художественной культуры и философского сознания, вскоре был осмыслен как характеристика культурной ситуации в целом. Оказалось, что постмодернизм существует не только под обложкой романа, в кинозале или на выставке, он является умонастроением постиндустриальной эпохи, состоянием ее повседневности. Для характеристики этой культурной ситуации используется ряд метафор и символов. Мир для постмодернистского сознания — это многозначный «текст», «лабиринт», в котором можно передвигаться в любом направлении без определенной цели, «коллаж», знаменующий возможность совмещения разнородных и даже диссонирующих элементов. Ж. Делез и Ф. Гваттари используют образ «ризомы», который передает сложность переплетений и пересечений различных тенденций и смыслов в культуре. Эта культура радикально плюралистична: из нее исчезли всякие незыблемые правила игры и аксиомы поведения. Она «отказывается от жесткости и замкнутости концептуальных построений, сознательно игнорирует практики бинарного противопоставления, делая ставку на маргинализацию, открытость, безоценочность и дестабилизацию любых, прежде всего классических, культурно-ценностных ориентаций» [3, с.544].
Эта культура радикально плюралистична: из нее исчезли всякие незыблемые правила игры и аксиомы поведения. Она «отказывается от жесткости и замкнутости концептуальных построений, сознательно игнорирует практики бинарного противопоставления, делая ставку на маргинализацию, открытость, безоценочность и дестабилизацию любых, прежде всего классических, культурно-ценностных ориентаций» [3, с.544].
Великие повествования («метанарративы»), к числу которых относились идеология прогресса, либеральная доктрина, убеждение во всесилии науки, и которые определяли прежде ценностное единство западной культуры, сошли со сцены. Постмодернизм — это способ восприятия мира и способ существования в мире, который утратил структурированность и упорядоченность, снял все запреты и священные табу. Человек решает сам, как ему поступить и какие сделать предпочтения. Он не руководствуется общеобязательным правилом, которое попросту отсутствует, а синтезирует «точечное» правило для конкретной ситуации, создавая «микронарратив».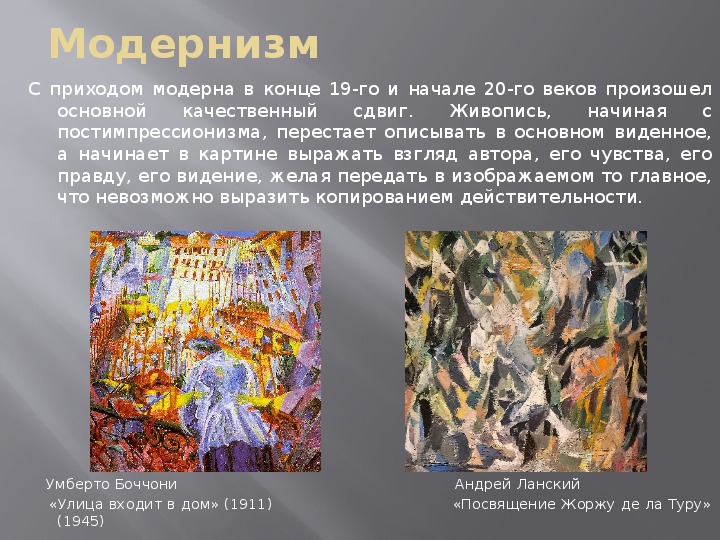 Ситуация постмодерна оставляет человека в одиночестве перед необходимостью выбора и в то же время предлагает ему массу готовых решений.
Ситуация постмодерна оставляет человека в одиночестве перед необходимостью выбора и в то же время предлагает ему массу готовых решений.
Оценки постмодерна разнятся. М.С.Каган предположил, что «мы являемся свидетелями начавшегося во второй половине нашего столетия нового переходного процесса социокультурного развития человечества, который может быть осмыслен с синергетической точки зрения как разрушение того способа самоорганизации общества и культуры, той гармонии, которые вырабатывались в Западном мире на протяжении нескольких веков» [4, с.514]. Есть основания считать постмодерн проявлением кризиса культуры минувшего столетия. Ж. Бодрийяр описал его как «состояние после оргии», как низшую точку идеологического штиля после девятого вала, а скорее между двумя валами — минувшим и грядущим.
Непродолжительный в масштабах истории ХХ век с его беспрецедентным темпом изменений является целой эпохой со своими внутренними этапами. Его канун, середина и конец предстают перед нами разными социокультурными мирами. Понятия модерна, модернизма, постмодернизма позволяют структурировать динамику современности.
Его канун, середина и конец предстают перед нами разными социокультурными мирами. Понятия модерна, модернизма, постмодернизма позволяют структурировать динамику современности.
Список использованной литературы:
1. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Т.2. СПб.: Лита, 1998. 643с.
2. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы. М.: Книжная палата, 1989. С. 468481.
— 266 —
Модерн, модернизм и постмодернизм |
Эти созвучные стили живописи часто путают между собой. Чтобы начинающий художник и любой другой человек, интересующийся искусством, мог свободно ориентироваться в направлениях, а так же уметь отличать их друг от друга, наша художественная школа предлагает Вам ознакомиться с данной статьей, а так же посетить увлекательные мастер-классы «Живопись Маслом».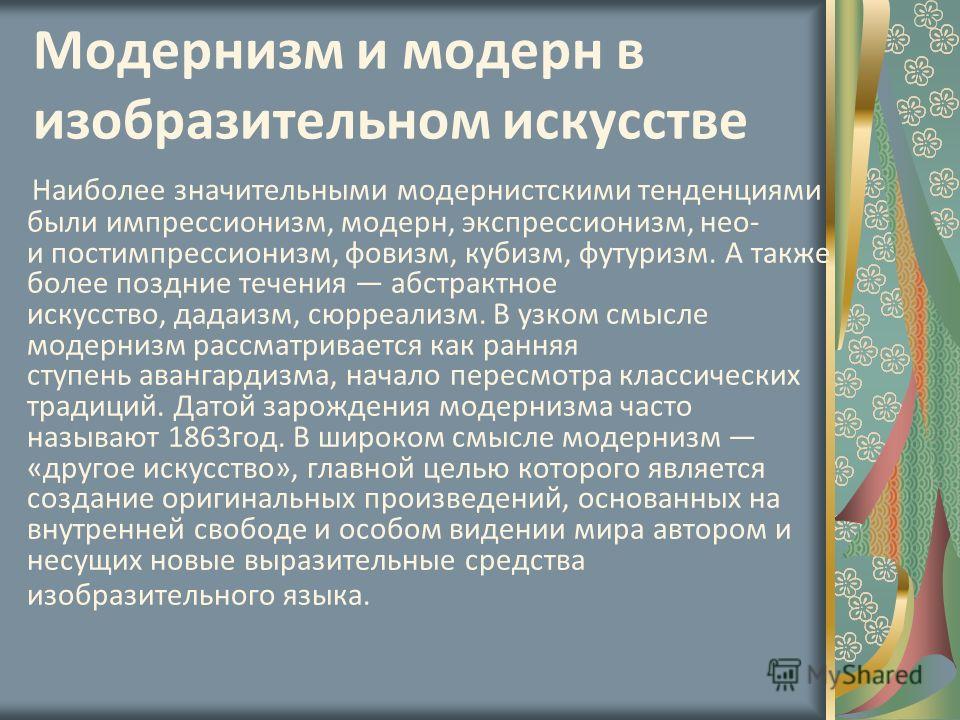 Вместе мы сможем не только рассмотреть разные стили живописи с их особенностями, но и самостоятельно реализовать свой потенциал в тех или иных течениях с применением специальных художественных техник.
Вместе мы сможем не только рассмотреть разные стили живописи с их особенностями, но и самостоятельно реализовать свой потенциал в тех или иных течениях с применением специальных художественных техник.
Виктор Васнецов. После побоища Игоря Святославовича с половцами. 1848-1926.
Итак, начнем с модерна, который сегодня остается популярным и востребованным в мире за счет своей оригинальной эстетики.
МОДЕРН
Модерн в живописи – это сюжеты, наполненные характерными для символизма образами. Их сложный ритм сочетают в линейной композиции с оригинальными декоративными элементами.
Первым и главным признаком данного стиля является специфическая плавность форм. Мы видим вытянутые, растущие в высоту фигуры, с четкими выделенными контурами на одноцветной поверхности. Рассматривая работы известных художников модерна, стоит приглядеться, и вы заметите, что на них нет привычного эффекта глубины. Изображения выглядят плоскими, словно это настенные аппликации.
Изначально, когда модерн в живописи только набирал обороты, его представители использовали экзотические растительные мотивы, причудливые орнаменты и узоры. Не редко в их сплетении на холстах возникали женские фигуры или мистические существа. Это символ, некая аллегория на главную тему картины, например любви, греха, смерти или войны. Важно отметить, что язык стиля формировался долгие годы, во многом не без идей символистов из Франции и России. В каждой стране он именовался по-разному. Это вам и ар нуво, и югендстиль, и сецессион.
Модерн в живописи представлен работами таких культовых личностей как П. Гоген и П. Боннар, Г. Климт и Э. Мунк, М. Врубель и В. Васнецов.
Поль Гоген. Две таитянки
Михаил Врубель. Шестикрылый Серафим. 1904.
Не путайте живописцев модерна и художников-модернистов.
МОДЕРНИЗМ
Модернизм – это некая совокупность разных стилей, которые основаны на индивидуальности взгляда автора, на свободе его мысли и внутренних эмоций. В целом, модернизм в живописи позиционирует себя как отдельное крупное течение, которое отказалось от привычных классических традиций. Художники перечеркнули свой исторический опыт. Они пытались найти новое начало в искусстве, обновить восприятие и понимание живописи в социуме.
В целом, модернизм в живописи позиционирует себя как отдельное крупное течение, которое отказалось от привычных классических традиций. Художники перечеркнули свой исторический опыт. Они пытались найти новое начало в искусстве, обновить восприятие и понимание живописи в социуме.
К наиболее известным модернистским течениям относятся такие стили, как авангардизм, примитивизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм и абстракционизм. Каждый из них преследует свою цель, имея в основе оригинальную философскую идею или мысль.
Авангардизм возник на почте модернизма в Европе в 1905-1930 годах. Цель этого течения — приобретения свободы по средствам художественных приемов. Работы авангардистов отличаются вызывающими, откровенными идеями и сценами.
Казимир Малевич. Супрематизм.
Примитивизм в живописи – это намеренное искажение образов, методом упрощения. В некотором смысле данный стиль подражает первичным, примитивным этапам развития живописи. Детская интерпретация человеческой сущности, обрисованная мелкими деталями, сделала этот стиль популярным среди художников самоучек. Однако наивное, легкое искусство без четких рамок и классических приемов серьезно повлияло на творчество маститых творцов. Примитивизм в живописи, в формах и образах отнюдь не связан с примитивностью содержания картины. Какие-то невзначай брошенные мелочи в сюжетах могут рассказать об очень важных внутренних эмоциях героя на холсте.
Детская интерпретация человеческой сущности, обрисованная мелкими деталями, сделала этот стиль популярным среди художников самоучек. Однако наивное, легкое искусство без четких рамок и классических приемов серьезно повлияло на творчество маститых творцов. Примитивизм в живописи, в формах и образах отнюдь не связан с примитивностью содержания картины. Какие-то невзначай брошенные мелочи в сюжетах могут рассказать об очень важных внутренних эмоциях героя на холсте.
Нико Пиросмани. Актриса Маргарита. 1909.
Кубизм основывается на сдвиге форм образов, их деформации и разложении на геометрические элементы. Концепция картин стала доминировать над художественной ценностью. Именно это течение определило развитие искусства на ближайшие десятилетия.
Л. Попова. Портрет философа. 1915.
Сюрреализм в живописи возник в результате литературных трудов, посвященных формированию сознания человека. Мысль о существование разума и души за пределами реального мира, изучение бессознательного, а так же феномена сна и абсурдных явлений дало художникам новые темы для работ.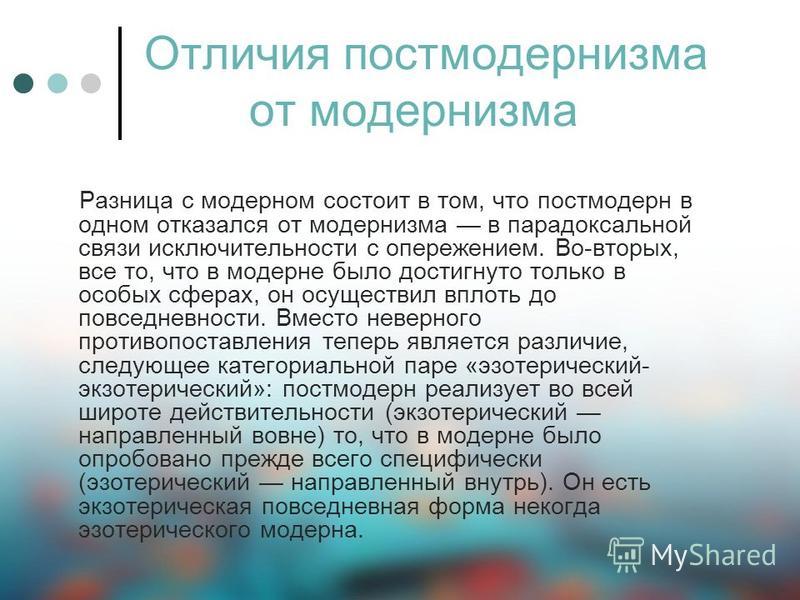 Главный смысл этого стиля – отстранение от привычного осознанного творчества. Сюрреализм в живописи – это образы и сюжеты, взятые из глубин собственного подсознания. Посему картины этого плана полны причудливыми галлюцинациями.
Главный смысл этого стиля – отстранение от привычного осознанного творчества. Сюрреализм в живописи – это образы и сюжеты, взятые из глубин собственного подсознания. Посему картины этого плана полны причудливыми галлюцинациями.
Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931.
Как и сюрреализм, футуризм в живописи берет свои идеи из литературы. Разрушение стереотипов и демонстрация урбанистического будущего – вот главная идея этого стиля. Стремительное движение в будущее, желание избавиться от старых норм, вырваться из пережитков прошлых столетий и попасть в мир более организованный и последовательный, видно в каждой работе художников данного течения. Футуризм в живописи русских авторов несколько отличается от картин европейских последователей этого направления. Главным образом слиянием с принципами кубизма.
Умберто Боччони. Состояния души II: Те, кто ушли. 1911.
Экспрессионизм в живописи – это протест против мира. Это внутреннее острое восприятие окружения, отчуждение человека, его духовное крушение. Стиль возник в преддверии войны, поэтому не удивительно, что холсты насыщенны деформацией, особым колоритом и резкими диссонансами. Экспрессионизм в живописи не что иное, как передача конкретной эмоции, драматизм понимания своих переживаний.
Стиль возник в преддверии войны, поэтому не удивительно, что холсты насыщенны деформацией, особым колоритом и резкими диссонансами. Экспрессионизм в живописи не что иное, как передача конкретной эмоции, драматизм понимания своих переживаний.
Эдвард Мун. Крик. 1893.
Абстракционизм в живописи – полный отказ от действительной передачи образов направлен на создание своеобразных ассоциаций у зрителя, путем сочетания на холсте разных геометрических фигур конкретных оттенков. Абстракционизм в живописи нацелен на гармонию композиции, ведь любой предмет под разным углом может иметь разные формы и оттенки. Это течение — последняя стадия проявления модернизма, так называемое нефигуративное искусство.
Тео ван Дусбург. Контркомпозиция V. 1924.
ПОСТМОДЕРНИЗМ
Уже из названия понятно, что постмодернизм пришел на смену модернизму, непонятному широким кругам и попавшему под руку скептических критиков. Он имеет уникальные типологические признаки.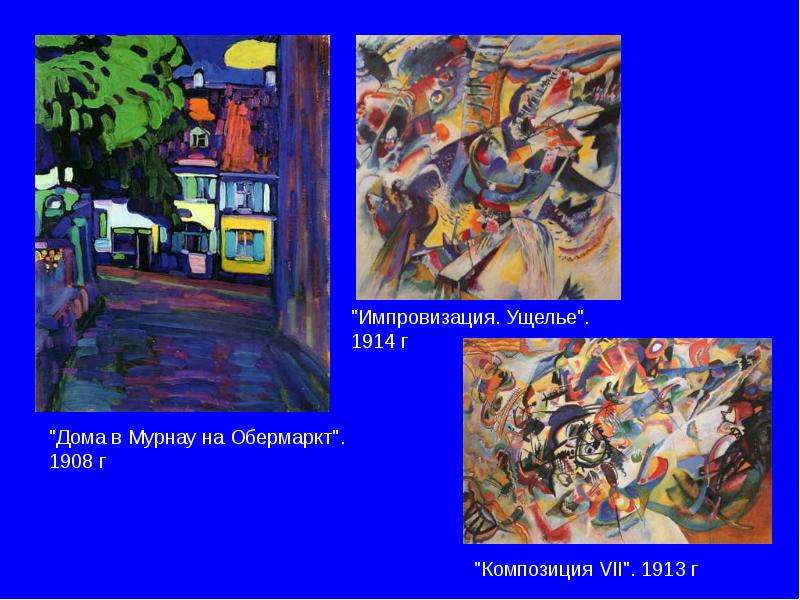 Во-первых, постмодернизм в живописи – это наличие готовой формы. Художники заимствуют образы из классических традиций, но дают им новую интерпретацию, свой эксклюзивный контекст. Не редко постмодернисты комбинируют формы из разных стилей, иронизируя над миром, а так же оправдывая тем самым свою вторичность.
Во-первых, постмодернизм в живописи – это наличие готовой формы. Художники заимствуют образы из классических традиций, но дают им новую интерпретацию, свой эксклюзивный контекст. Не редко постмодернисты комбинируют формы из разных стилей, иронизируя над миром, а так же оправдывая тем самым свою вторичность.
Следующим важным отличием является отсутствие каких-либо правил. Данное течение не диктует автору критерии для самовыражения. Творец вправе выбрать любую форму и манеру исполнения своей работы. Обратите внимание, что такая свобода стала основой для свежих творческих идей и направлений в искусстве. Именно постмодернизм в живописи является предпосылкой к возникновению художественных инсталляций и перформансов. Данное течение не имеет четких особенностей в технике, и сегодня является наиболее крупным и популярным на мировой арене.
Paul Salvator Goldengreen. The Painter Prince.
Художественная школа «Живопись Маслом» активно содействует в поиске своего стиля начинающим художникам и любителям.
Приключения модернизма в марксизме Маршалла Бермана
[стр. 240—255 бумажной версии номера]
Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности
Маршалл Берман
Перев. с англ. В. Федюшина, Т. Беляковой
М.: Горизонталь, 2020. – 488 с. – 1000 экз.
Выход русского перевода книги американского марксиста Маршалла Бермана (1940–2013) «Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности» [1] (1982) можно приветствовать хотя бы потому, что это событие служит хорошим поводом для очередного возвращения к разговору об одном из самых неоднозначных, противоречивых и сложных понятий социальной теории – «современности». Нам известно, что современность понимается по-разному не только разными дисциплинами (политической наукой, философией, социологией, исследованиями культуры, историей и так далее), но и внутри самих этих дисциплин. Возможно, главный труд Бермана поможет нам лучше понять это загадочное во многих отношениях понятие – либо эта книга, напротив, окончательно всех запутает, и тот, кто вчера был уверен, что понимает значение слова «современность», обнаружит, что это прочное знание неожиданным образом растворилось в воздухе. Но прежде, чем перейти к разговору по существу, позволю себе небольшой комментарий о переводе главного термина.
Но прежде, чем перейти к разговору по существу, позволю себе небольшой комментарий о переводе главного термина.
Предуведомление о «модерности»
Попадая в русскоязычный интеллектуальный контекст, книга Бермана может не только побудить дискуссии о природе и значении современности, но также поднять проблему использования ключевых понятий, однозначных в английском языке и приобретающих непривычное (порой странное) звучание в русском. Иными словами, обстоятельства требуют если не прояснить, то хотя бы подсветить важнейшую для отечественной гуманитарной науки проблему. Это проблема перевода ключевого для текста Бермана термина – modernity – и производных от него слов.
Переводчики книги приняли решение перевести modernity как «модерность». Такой вариант можно найти в научных публикациях двадцатилетней и даже сорокалетней давности. Раньше подобные варианты перевода «современности» встречались относительно редко, а если переводчики их и использовали, то отдельно оговаривали, почему так делают [2]. Но в последнее десятилетие это слово все чаще появляется при переводе modernity, а исследователи начинают его активно использовать и развивать [3]. Особенно часто «модерность» мелькает в переводах издательства «Новое литературное обозрение» – взять хотя бы только что вышедшую работу Талала Асада [4]. Эту моду начинают перенимать и другие издательства: сперва «Strelka Press» [5], а теперь и «Горизонталь», издавшая текст Бермана. Впрочем, на страницах журналов и книг «Нового литературного обозрения» мы часто встречаем слово «модерность» наряду с другими – как мне кажется, более традиционными – вариантами перевода этого термина. Скажем, в книгах историка Алейды Ассман можно обнаружить термин «модерн» [6]. Более того, там, где требуется научная строгость и терминологическая щепетильность, в текстах того же издательства modernity (modernität, moderné) переводится не иначе как «современность» и «современный» [7].
Но в последнее десятилетие это слово все чаще появляется при переводе modernity, а исследователи начинают его активно использовать и развивать [3]. Особенно часто «модерность» мелькает в переводах издательства «Новое литературное обозрение» – взять хотя бы только что вышедшую работу Талала Асада [4]. Эту моду начинают перенимать и другие издательства: сперва «Strelka Press» [5], а теперь и «Горизонталь», издавшая текст Бермана. Впрочем, на страницах журналов и книг «Нового литературного обозрения» мы часто встречаем слово «модерность» наряду с другими – как мне кажется, более традиционными – вариантами перевода этого термина. Скажем, в книгах историка Алейды Ассман можно обнаружить термин «модерн» [6]. Более того, там, где требуется научная строгость и терминологическая щепетильность, в текстах того же издательства modernity (modernität, moderné) переводится не иначе как «современность» и «современный» [7].
Получается, что modernity в русском языке становится чем-то вроде андрогина, являясь то в мужском (модерн), то в женском роде (модерность).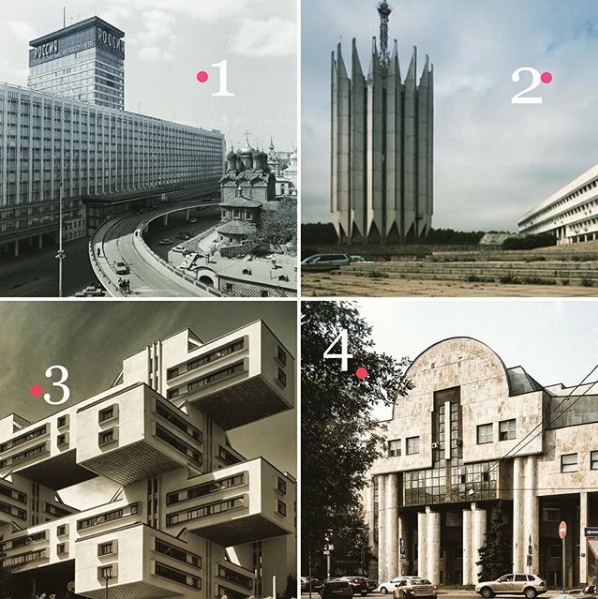 Если кто-то скажет, что в этом нет никакой разницы или она незначительна, на это найдется немало возражений. Начиная с того, что в данном случае мы можем обсуждать гендерную специфику перевода важного слова и заканчивая фонетическим благозвучием. Пускай это будет вкусовщина, но так сложилось, что я предпочитаю устоявшееся лично для меня понятие «модерн» вместо «модерность».
Если кто-то скажет, что в этом нет никакой разницы или она незначительна, на это найдется немало возражений. Начиная с того, что в данном случае мы можем обсуждать гендерную специфику перевода важного слова и заканчивая фонетическим благозвучием. Пускай это будет вкусовщина, но так сложилось, что я предпочитаю устоявшееся лично для меня понятие «модерн» вместо «модерность».
К слову, в 2000-е в серии переводных книг, научным редактором которых был экономист Владислав Иноземцев, регулярно появлялся термин «модернити». Кажется, этот вариант перевода не слишком прижился (к счастью), тем более, что у некоторых это слово вызывало возмущение. Владимир Малахов, рецензируя одну из работ, вышедших под редакцией Иноземцева, обратил на это внимание. Он попенял редактору на то, что «модернити» – совсем неблагозвучный аналог устоявшихся в политологической и социологической литературе терминов «современность» или «модерн», добавив:
«На мой взгляд, приобретения от этого неологизма сомнительны, а вот потери очевидны.
Что мы станем в этом случае делать с “постмодерном”? Передавать как “постмодернити”? И как мы будем вести себя в случаях, когда переводим с других языков, кроме английского? Вводить “модернитат” для немецких книг и “модерните” для французских и так далее?» [8]
Вообще, продолжая рассуждать в этой логике, можно задаться вопросом о том, что, если слово «модерность» заживет своей жизнью, нам придется переосмысливать издавна существующие переводы классики: например, вместо устоявшегося «древние и современные» мы будем использовать «древние и модерные». Здесь же вскользь отмечу, что, в принципе, разговор о «модерности» может стать самостоятельным исследованием: где, как, когда и почему при переводе modernity стали употребляться слова «современность», «модерн» и «модерность» (с «модернити» мы разобрались). Однако дело не в этом, а в том, что в русском издании Бермана чередуются слова «модерность», «модерный», «модернизм» и «современный» – первые три термина, правда, встречаются чаще. Все это говорится здесь потому, что, хотя в переводе и возникла «модерность», в дальнейшем я буду использовать термины «модерн» и «современный», за исключением цитат из рецензируемой работы.
Все это говорится здесь потому, что, хотя в переводе и возникла «модерность», в дальнейшем я буду использовать термины «модерн» и «современный», за исключением цитат из рецензируемой работы.
Если учесть, что основной корпус книги Бермана был написан к 1980 году (предисловие автор сочинял в январе 1981-го), нам следует ответить на очевидный вопрос: может ли она быть названа «современной»? Имеет ли она, помимо исторического значения, какую-то эвристическую ценность для понимания актуальной культурной и общественной ситуации? С тем очевидным фактом, что текст читали, перечитывали и цитировали на протяжении 1980-х (и даже позже), никто не спорит – но как мы отвечаем на эти вопросы сегодня? Диалектически.
Первая и, в принципе, простая гипотеза такова: сегодня книга Бермана имеет лишь историческую ценность и остается важным вкладом «культурного марксизма» в дискуссии о современности. Поскольку дебаты о модерне/модернизме были вытеснены дебатами о постмодерне/постмодернизме и разных видах модерна – «второго» (Ульрих Бек), «радикализованного» (Энтони Гидденс), «текучего» (Зигмунт Бауман), «множественного» (Шмуэль Эйзенштадт), «сверхмодерна» (Марк Оже) [9] и так далее, – очевидно, что классическое понимание модерна, учитывая всю спорность эпитета «классический» по отношению к модерну, принадлежит истории.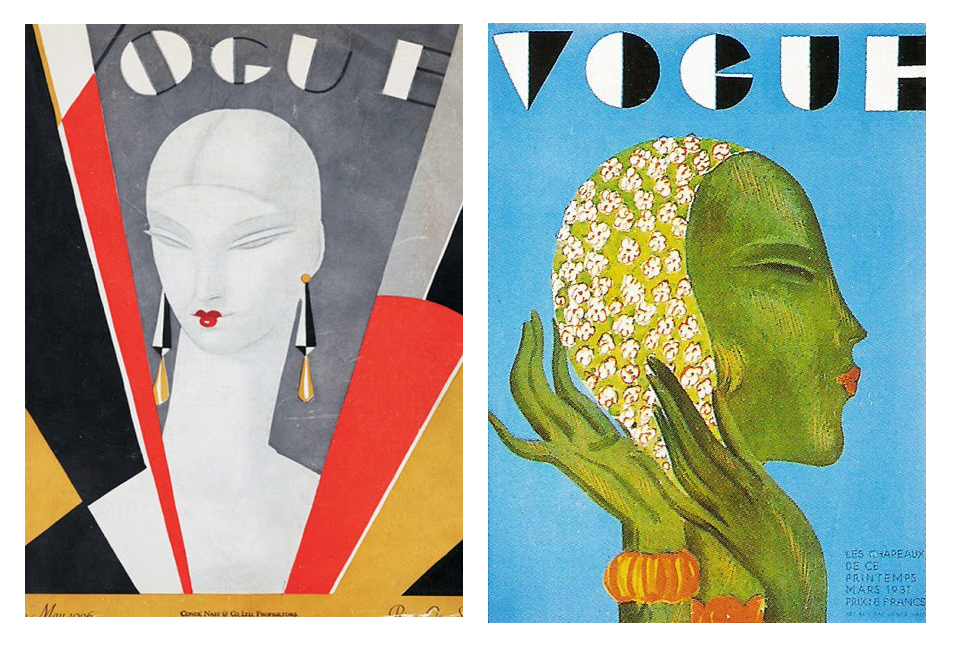
Второе наше предположение сложнее. Здесь необходимо обратиться к широкому интеллектуальному контексту, в который должны быть вписаны концептуальные источники Бермана, – точнее, к двум контекстам. Первый – это марксизм, что предполагает прояснение вопроса, каким именно марксистом был Берман, потому что про (пост)модерн рассуждали многие левые. И второй – это сама теория модерна в широком смысле, что предполагает ответ на вопрос, имеет ли сегодня книга Бермана эвристическую ценность. В дальнейшем я сосредоточусь именно на этих двух сюжетах.
Приключения в марксизме
Бермана называют философом марксистского толка, а также урбанистом. Ранний текст Маркса «Экономическо-философские рукописи 1844 года», который Берман прочитал студентом Колумбийского университета, оказал сильное влияние на формирование его взглядов. Закончив Колумбийский университет, Берман продолжил обучение в Оксфорде у Исайи Берлина. После защиты диссертации в Гарвардском университете в 1969 году Берман стал преподавать в Городском колледже Нью-Йорка, где и проработал всю жизнь. Кроме преподавания, Берман публиковался в таких левых и леволиберальных изданиях, как «The Nation», «New Left Review», «The New York Times Book Review», а также был членом редколлегии журнала «Dissent». Некоторые его книги были изданы в издательстве «Verso». Сам он считал себя марксистом, а одна из его книг называется «Приключения в марксизме» [10].
Кроме преподавания, Берман публиковался в таких левых и леволиберальных изданиях, как «The Nation», «New Left Review», «The New York Times Book Review», а также был членом редколлегии журнала «Dissent». Некоторые его книги были изданы в издательстве «Verso». Сам он считал себя марксистом, а одна из его книг называется «Приключения в марксизме» [10].
Однако если мы заглянем в рецензируемую книгу в надежде найти там оригинальный вклад в теорию марксизма, то скорее всего будем разочарованы, потому что увидим сборник эссе, написанных в разные годы и на разные темы. Одно из эссе является главой книги «Все твердое растворяется в воздухе», другие посвящены «игривым» интерпретациям Маркса или текстов (нео)марксистских мыслителей (Лукача и Беньямина). Иными словами, марксизма в тексте не так много, а все, что относится к таковому, в полной мере может быть названо «культурным марксизмом». Ни экономического, ни исторического анализа в книге нет. Прочие работы Бермана посвящены его любимым темам: урбанистике и прежде всего Нью-Йорку – городу, в котором автор жил и работал.
Итак, текст книги «Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности» состоит из эссе, написанных на далекие друг от друга темы между 1971-м и 1980 годом. Первая глава посвящена «Фаусту» Гёте, которого Берман прочитывает как «трагедию развития» (модернизации). Вторая глава представляет собой трактовку «Манифеста коммунистической партии», в которой показан саморазрушительный характер модернизации. В третьей главе Берман обращается к французской поэзии, главным образом к Бодлеру – образцу модернистского письма. Четвертая глава – обильные цитаты из русской литературы и комментарии к ней (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый и Мандельштам). Наконец, в пятой главе Берман рассказывает про «модернизм на улицах» Нью-Йорка в 1950–1970-е: 1950-м посвящено эссе о Роберте Мозесе (и немного об Алене Гинзберге), 1960-м – Джейн Джекобс, третья часть главы – общая характеристика нью-йоркской городской атмосферы 1970-х. Объединены главы концептуальным введением о модерне и его интеллектуальной истории [11]. Мы видим, что, хотя, как было отмечено, заглавие книги – аллюзия на Маркса, Маркса в ней не так уж и много.
Мы видим, что, хотя, как было отмечено, заглавие книги – аллюзия на Маркса, Маркса в ней не так уж и много.
Тем не менее мы встречаем сочувственные ссылки на Бермана в знаменитых книгах: у Алвина Гоулднера в «Двух марксизмах», у Мартина Джея в «Марксизме и тотальности», у Дэвида Харви в «Состоянии постмодерна», у Дугласа Келлнера в «Медиакультуре» и даже у Марка Фишера в «Капиталистическом реализме». Можно сказать, что марксисты знали текст Бермана и активно его использовали. Получается, Берман все-таки – хотя, быть может, и формально – марксист. И все же его трудно отнести к европейской традиции философского «западного марксизма», ориентированного, как указывает Перри Андерсон, на философию – или на социологию, как считает социальный теоретик Йоран Терборн [12]. Берман стал известен скорее как интерпретатор Маркса. Собственно, именно глава, посвященная Марксу, и заинтересовала исследователей марксизма.
Сперва текст, название которого впоследствии стало заглавием книги, появился в виде журнальной публикации [13] – именно его сочувственно цитировал Алвин Гоулднер в «Двух марксизмах» [14], а позже – Мартин Джей в «Марксизме и тотальности» (впрочем, в другом месте всего лишь сославшись на мнение Бермана о Фуко) [15]. «Радикальный географ» Дэвид Харви в «Состоянии постмодерна» замечает:
«Радикальный географ» Дэвид Харви в «Состоянии постмодерна» замечает:
«Лишь недавно левые пришли к согласию с некоторыми из указанных тем, и я полагаю важным обстоятельством, что книга Бермана, опубликованная в 1982 году, восстанавливает в статусе некоторые из них лишь за счет рассмотрения Маркса не столько как марксиста, сколько как первого великого модернистского автора, который смог предвидеть модернизм как таковой» [16].
В 1995 году американский культуролог Дуглас Келлнер присоединился к этой точке зрения: «Конечно, как показал Маршалл Берман, “Манифест” – это виртуальный гимн современности и ключевой текст теории модерна» [17]. Спустя много лет, оглядываясь на историю левой мысли, Йоран Терборн напишет:
«Рассматривать Маркса и Энгельса как диалектиков современности характерно для конца ХХ века, это проявление периода, в рамках которого критическая социальная теория утверждает свою относительную автономию от экономики, а сама ценность современности ставится под вопрос из перспективы “пост-”, а не “до-” современности.
Тем не менее, следует акцентировать внимание на том, что, хотя такое понимание, пионером в котором был Берман, и является новым, оно не должно быть навязываемым» [18].
Все эти высказывания – доказательство того, что в контексте марксизма Берман стал известен как первооткрыватель Маркса, заложившего основы дискурса о модерне. Сам Берман гордился этим оригинальным «открытием», отмечая, что в то время, как про Ницше часто рассуждают в подобном контексте, фигура Маркса в этой перспективе выглядит неожиданно. Здесь, впрочем, стоит сказать, что во Франции еще в начале 1960-х Анри Лефевр – тоже урбанист и исследователь повседневности – много писал про Маркса в своем «Введении в современность» [19]. Если сравнивать интеллектуальное наследие Лефевра и Бермана, следует признать, что первый оказал куда большее влияние и на понимание марксизма, и на гуманитарное и социальное знание в целом.
Марксисты признали только одну эту заслугу Бермана – «новый» взгляд на Маркса, – в то время как сама «теория» модернизма Бермана осталась незамеченной. Здесь нечему удивляться: кроме Маркса, Берман писал про Гёте, Бодлера, Петербург у Достоевского и Пушкина, а также про Нью-Йорк 1960–1970-х [20]. Социологам это было не слишком интересно, равно как и профессиональным урбанистам. Между тем существует условный британский аналог книги Бермана: это сборник «Политики модернизма», принадлежащий теоретику культуры Реймонду Уильямсу. Редактор книги Уильямса и автор предисловия Тони Пинкни открыто сравнивает их подходы к модернизму. Несмотря на то, что для обоих модернизм сосредотачивался и в полной мере являл себя именно в городской жизни, Пинкни отмечает, что если герои Бермана – Гёте, Маркс и Бодлер (Достоевский в данном случае не упоминается), то у Уильямса – это Блейк, Вордсворт и Диккенс [21]. Как нетрудно заметить, «канон» британского (литературного) модернизма у Уильямса куда более последователен и социологичен – тем более, что Уильямс обращает внимание прежде всего на социальную сторону творчества указанных писателей.
Здесь нечему удивляться: кроме Маркса, Берман писал про Гёте, Бодлера, Петербург у Достоевского и Пушкина, а также про Нью-Йорк 1960–1970-х [20]. Социологам это было не слишком интересно, равно как и профессиональным урбанистам. Между тем существует условный британский аналог книги Бермана: это сборник «Политики модернизма», принадлежащий теоретику культуры Реймонду Уильямсу. Редактор книги Уильямса и автор предисловия Тони Пинкни открыто сравнивает их подходы к модернизму. Несмотря на то, что для обоих модернизм сосредотачивался и в полной мере являл себя именно в городской жизни, Пинкни отмечает, что если герои Бермана – Гёте, Маркс и Бодлер (Достоевский в данном случае не упоминается), то у Уильямса – это Блейк, Вордсворт и Диккенс [21]. Как нетрудно заметить, «канон» британского (литературного) модернизма у Уильямса куда более последователен и социологичен – тем более, что Уильямс обращает внимание прежде всего на социальную сторону творчества указанных писателей.
Собственно, мозаичность и неполнота эмпирического материала – один из главных упреков, которые можно предъявить Берману. Сам автор это хорошо понимал и в более позднем предисловии к книге оправдывался:
Сам автор это хорошо понимал и в более позднем предисловии к книге оправдывался:
«Я никогда и не собирался составлять энциклопедию модерности. Скорее я надеялся наметить серию образов и парадигм, которые подтолкнули бы других более глубоко и детально исследовать их собственные опыт и истории» (с. 10).
Несмотря на то, что Берман акцентирует внимание на своем личном опыте, не может быть никаких сомнений, что ему адресовали упреки в непонимании темы модерна уже в момент выхода книги. Перри Андерсон написал объемную и очень критическую рецензию на «Все твердое растворяется в воздухе» [22]. И хотя Андерсон был строг, он хотя бы отнесся к «теории современности» Бермана всерьез. Собственно, Андерсон, будучи историком, мыслил исторически, и, разумеется, его не могло удовлетворить, что Берман, рассуждая в категориях чувственности модерна, упускал из виду многочисленные факты. Но даже не это было главным. Главное – Андерсон увидел то, что сразу бросается в глаза при прочтении книги Бермана: его «культурный марксизм» прежде всего «культурный», нежели «марксизм».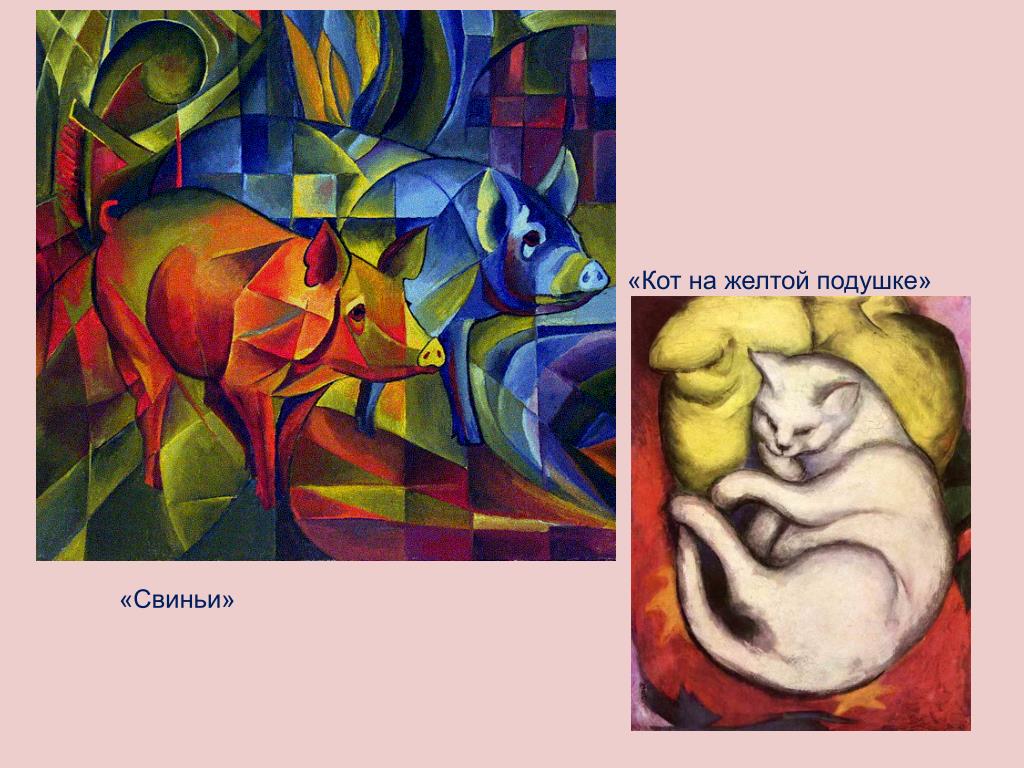 У него не просто отсутствует какой бы то ни было экономический анализ эпохи (что для «культурного марксизма» – норма), но даже и социальный. Вместе с тем сам Берман громогласно заявлял: «Я пытаюсь читать модернизм по-марксистски, показать, как присущие ему энергия, прозрения и тревоги проистекают из устремлений модерной экономической жизни» (с. 155). Однако в главке про культуру и противоречия капитализма, откуда взята эта цитата, ничего нет про капитализм.
У него не просто отсутствует какой бы то ни было экономический анализ эпохи (что для «культурного марксизма» – норма), но даже и социальный. Вместе с тем сам Берман громогласно заявлял: «Я пытаюсь читать модернизм по-марксистски, показать, как присущие ему энергия, прозрения и тревоги проистекают из устремлений модерной экономической жизни» (с. 155). Однако в главке про культуру и противоречия капитализма, откуда взята эта цитата, ничего нет про капитализм.
Впоследствии Андерсон подробно показал, почему эстетический модернизм обусловлен исторически, а также не преминул заметить, что в 1980-х не следовало бы забывать про «третий мир». С точки зрения Андерсона, модернизм «возник на пересечении полуаристократического правящего порядка, полуиндустриализированной капиталистической экономики и наполовину сформировавшегося или повстанческого рабочего движения» [23]. А вот марксисту Берману было совершенно не интересно обсуждать капитализм, и в целом, как заметил Андерсон, взгляд Бермана противоречит самой теории Маркса. Кроме того, у Бермана определенно была проблема даже с пониманием модернизма как эстетического течения. С точки зрения Андерсона, если признать, что модернизм в искусстве возникает в начале ХХ века (как последствие предшествующих столетий модерна), то, во-первых, внутри модернизма есть различные течения – кубизм, футуризм, символизм, экспрессионизм, конструктивизм и так далее, – а во-вторых, у этих модернизмов есть национально-географические особенности. Иными словами, мы имеем то, что Андерсон назвал «множественностью модернизмов» – эстетических тенденций, являвшихся отражениям историко-экономических и политических особенностей тех или иных стран.
Кроме того, у Бермана определенно была проблема даже с пониманием модернизма как эстетического течения. С точки зрения Андерсона, если признать, что модернизм в искусстве возникает в начале ХХ века (как последствие предшествующих столетий модерна), то, во-первых, внутри модернизма есть различные течения – кубизм, футуризм, символизм, экспрессионизм, конструктивизм и так далее, – а во-вторых, у этих модернизмов есть национально-географические особенности. Иными словами, мы имеем то, что Андерсон назвал «множественностью модернизмов» – эстетических тенденций, являвшихся отражениям историко-экономических и политических особенностей тех или иных стран.
Берман неуклюже отвечал, ссылаясь на собственный уникальный метод анализа (личный опыт), что Андерсон «был загнан в угол его же теоретической рамкой и ему нужно оглянуться и посмотреть в другую сторону, где может быть много сложностей, но по крайней мере есть свет и пространство» [24]. То есть по сути Берман ничего не говорит в ответ на критику, но зато в очередной раз делится собственными наблюдениями за городской жизнью, чтобы проиллюстрировать то, как выглядит «модернизм на улицах». Его ответ выглядит совсем неубедительным. К слову, оба текста (критика Андерсона и ответ Бермана), в отличие от многих других материалов «New Left Review», находятся в открытом доступе, представляя собой прекрасный пример полемики между разными марксизмами конца ХХ столетия.
Еще одно забавное обстоятельство: в работе «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» Фредрик Джеймисон вообще не упоминает «модернизм» Бермана, но при этом ссылается на цитированную выше рецензию Перри Андерсона как на важный теоретический источник. То есть в рецензии на книгу Бермана Джеймисон нашел для себя больше смысла, чем в самóй рецензируемой книге:
«Перри Андерсон убедительно доказал, что модернизм в искусстве (хотя по некоторым другим причинам он отвергает саму категорию модернизма) тесно связан с ветрами перемен, дующими со стороны больших новых социальных движений радикального направления» [25].
Берман не просто упускал из виду классовый анализ, но в целом был мало заинтересован в методе и даже в политической идее Маркса.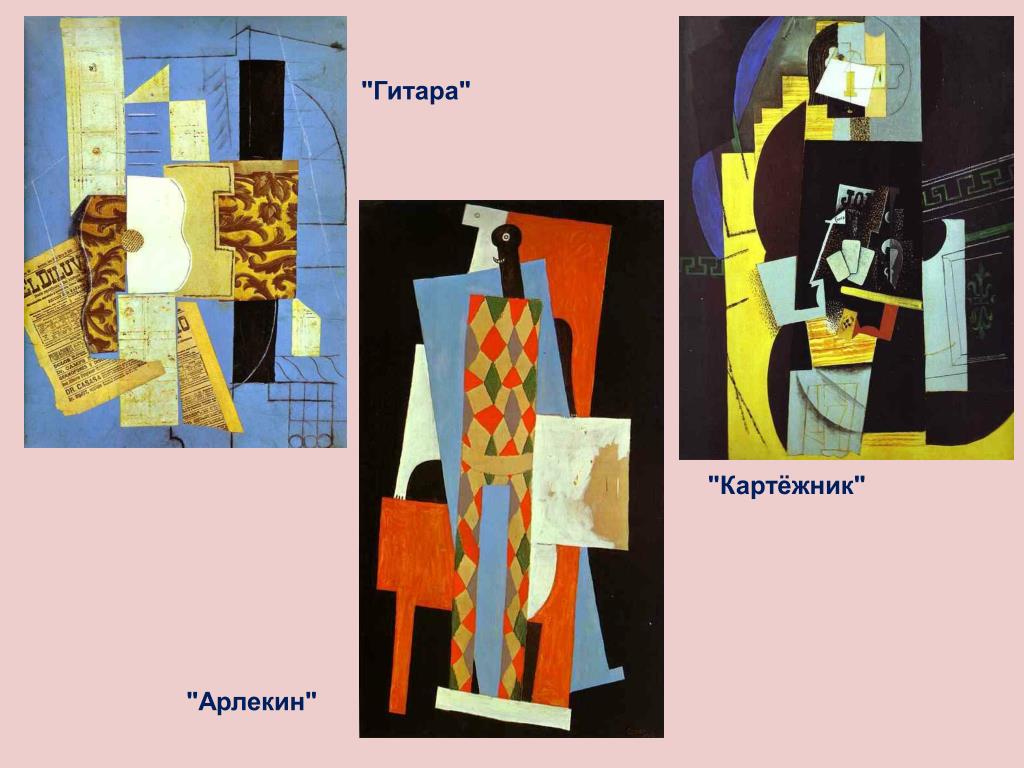 В этом отношении он был куда больше похож на современных американских «леволиберальных» авторов, ратующих за политкорректность. Например, когда Берман пишет о «людях модерна», то говорит о них как о «мужчинах и женщинах»; но уже в 1970-х его волновала судьба гомосексуалов (переводчики, к несчастью, использовали термин «гомосексуалисты», с. 13) – даже для начала 1980-х не такое уж и частое явление среди марксистов. Наконец, Берман, что легко прочитывается в тексте, нападет не на корень всех социальных зол (базис – худшие проявления капитализма), но на надстройку – конкретную политическую силу, а именно, на стремление Рейгана уничтожить светский гуманизм и превратить США в теократическое социальное государство (с. 13).
В этом отношении он был куда больше похож на современных американских «леволиберальных» авторов, ратующих за политкорректность. Например, когда Берман пишет о «людях модерна», то говорит о них как о «мужчинах и женщинах»; но уже в 1970-х его волновала судьба гомосексуалов (переводчики, к несчастью, использовали термин «гомосексуалисты», с. 13) – даже для начала 1980-х не такое уж и частое явление среди марксистов. Наконец, Берман, что легко прочитывается в тексте, нападет не на корень всех социальных зол (базис – худшие проявления капитализма), но на надстройку – конкретную политическую силу, а именно, на стремление Рейгана уничтожить светский гуманизм и превратить США в теократическое социальное государство (с. 13).
Подтверждение тезиса о «левом либерализме» Бермана можно найти в его книге. Так, восхищаясь заслугами в теории урбанистики Джейн Джекобс, Берман тем не менее не может простить ей, что в описании города Джекобс нет чернокожих: «Ее мир находится в промежутке между белыми американцами из зажиточного рабочего класса внизу и белыми американцами из среднего класса профессионалов наверху» (с. 415). Суровый критик всех тех, кто предал «настоящий» марксизм и перешел на позиции марксизма «культурного», Рассел Якоби, однажды точно сформулировал политическое кредо Бермана:
415). Суровый критик всех тех, кто предал «настоящий» марксизм и перешел на позиции марксизма «культурного», Рассел Якоби, однажды точно сформулировал политическое кредо Бермана:
«[Многие годы Берман] воспевает радости городских улиц и уголков, где часто находит свидетельства культурного обновления и трансформации. Когда Берман идет по магазинам и встречает азиатку с черным ребенком, который ест бейгл, то взволнованно объявляет, что революция идет полным ходом» [26].
Точнее сказать трудно. Все-таки: «шумные городские улицы не подрывают основ капитализма» – как не подрывает его и «марксизм» Бермана.
Тем не менее это не означает, что для левых эта книга бесполезна и что она не сыграла никакой роли. К ней часто обращаются за иллюстрациями. Например, анализируя фильм Ричарда Линклейтера «Бездельник», Дуглас Келлнер замечает, что в одной из первых сцен на столике в кофейне лежат две книги – сборник эссе под редакцией Хэла Фостера о постмодернистской культуре «Антиэстетика» (1983) и текст Маршалла Бермана о модерне и модернистской культуре «Все твердое расплавляется в воздухе» (1982).
«В этих двух книгах сформулированы противоположные эстетические оценки (модернизм против постмодернизма). Я бы сказал, что Линклейтер сочетает модернистские и постмодернистские эстетические стратегии, и, таким образом, фильм находится между модерном и постмодерном» [27].
А Марк Фишер, используя рассказ Бермана о том, как Беломорканал стал триумфом символических достижений над реальными, сформулировал идею о том, что сегодня «все прочное растворяется в рекламном представлении [publicity]» [28]. Однако, если как иллюстративный материал книга Бермана полезна и интересна, это не распространяется на ее теоретические основания.
Приключения в модернизме
Как мы видели, Перри Андерсон был одним из немногих левых, кто прочитал книгу Бермана внимательно, но критиковал ее с позиций исторического и социально-экономического контекста возникновения модернизма. Может быть, в плане философии или социальной теории подход Бермана был более основательным? К сожалению, это не так. Проблемы начинаются уже с определения модерна:
«Существует определенный тип жизненного опыта – опыта пространства и времени, себя и других, жизненных возможностей и угроз, таящихся в жизни, – который сегодня разделяют все люди по всему миру. Я буду называть его “модерностью”. Быть модерным – значит пребывать в среде, которая обещает нам приключения, силу, радость, рост, преобразование нас и мира вокруг, но в то же время угрожает уничтожить все, чем мы обладаем, все, что мы знаем, все, чем мы являемся. Модерная среда и модерный опыт пересекают любые границы – географические и этнические, классовые и национальные, религиозные и идеологические: можно сказать, что модерность объединяет все человечество. Однако это парадоксальное единство, единство раздробленности: оно бросает нас в водоворот нескончаемого распада и возобновления, борьбы и противоречий, неопределенности и страданий. Быть модерным – значит быть частью вселенной, в которой, как сказал Маркс, “все твердое растворяется в воздухе”» (с. 18).
В этой дефиниции мало конкретного – того, что позволяло бы отчетливо понять представления Бермана о модерне. Единственное, что становится ясно, так это то, что модерн диалектичен и что он является личным опытом каждого человека эпохи модерна.
Берман предлагает свою периодизацию, выделив три периода современности: с XVI столетия и до конца XVIII века; далее, с Великой Французской революции и до конца XIX века; наконец, третий этап берет начало в ХХ столетии. Наиболее яркие голоса модерна, с точки зрения Бермана, – Руссо (первый период), Ницше и Маркс (второй период). Трудности с определением модерна в изложении Бермана начинаются с ХХ столетия. Здесь Берман начинает с футуристов, затем переходит к Веберу, Маркузе, Клементу Гринбергу. Он отмечает, что текущее столетие по-разному оценивало модерн, разделяя авторов на пессимистов, оптимистов и противников современности. В итоге у Бермана все смешивается воедино – социология, искусство, литература, философия. Последний, кто сказал о модерне что-то оригинальное, с точки зрения Бермана, был Фуко. В целом же в 1970-е наступает закат «проблематики модерности», который ускорил «распад нашего мира на скопление групп с частными материальными и духовными интересами, обитающих в герметичных монадах, куда более изолированных, нежели это необходимо» (с. 43).
В этом контексте возникают как минимум три проблемы. Первая: соотношение понятий модернизации и модерн(изм)а, которые для Бермана находятся в диалектической взаимосвязи. Вторая – то, чего Берман старался избежать: это возникновение постмодернистского контекста. И третья: несмотря на то, что Берман отмечал негативные тенденции модерна, все же он долгое время не видел «темной стороны современности», говоря словами социолога Джеффри Александера.
Современная жизнь, считает Берман, обязана своим появлением множеству факторов: индустриализации производства, порождающей новые формы классовой борьбы; демографическим потрясениям, урбанизации, стремительно развивающимся средствам массовой коммуникации, массовым социальным движениям, национальным государствам и мировому рынку. Совокупность этих факторов стали обозначать как единый процесс модернизации. Берман понимает современность как новый опыт, получив который, люди осознают, что живут в постоянно меняющемся мире, – так его определение само растворяется в воздухе. Берман хочет трактовать модерн как тотальность, но тотальности в его тексте не возникает – потому что как «тотальность» не выглядит его эмпирический материал. Это лишь очень узкий набор кейсов. Берман пытается строить нарратив, но этот нарратив выглядит максимально неполным и эклектичным. Как следствие возникает методологическая проблема. Смешивая понятия культуры и социологии, Берман объединяет модернизм и модернизацию, синтезируя их в диалектическом единстве. Но диалектики здесь нет ни в каком смысле, даже в самом вульгарном. Йоран Терборн отметил эту ошибку в отношении другого автора: в 1990-е Джеффри Александер отождествил (культурный) модернизм с послевоенной социальной теорией «модернизации». Модернизация была особой социокультурной теорией исторической эволюции, на которую стали нападать с «антимодернистских» позиций [29]. Однако если Александер решил эту проблему путем периодизации и разделения модерна на модерн, антимодерн, постмодерн и неомодерн [30], то Берман просто «отменяет» социологию как таковую, утверждая, что социологи, «пристыженные критикой своих техно-пасторальных моделей, полностью оставили задачу построения единой модели, которая лучше бы описывала модерную жизнь» (с. 43).
Среди «сдавших» теорию модернизации Берман называет Хантингтона, Эйзенштадта, Броделя, Валлерстайна и некоторых других исследователей. Но и здесь Берман опять неправ. Перечисленные социологи отказывались не от теории модернизации вообще, но от нормативной теории модернизации по западному сценарию, то есть обратили особое внимание на «третий мир», о котором сам Берман забыл. В итоге все эти авторы, как мы знаем, подвергнув критике первоначальную теорию модернизации, возникшую в 1960-е, построили собственные модели, претендующие на полноту. Так что эстетический модернизм Бермана вчистую проигрывал концепциям современности социальных теоретиков, многие из которых действительно были марксистами.
Другие авторы – тоже марксисты, но не социологи в строгом смысле слова – обратились к объяснительной модели постмодерна, которую Берман, отверг. И здесь возникает очередная проблема. В новом предисловии к своей книге (1988) [31] Берман пишет:
«Созданная постмодернистами парадигма полностью противоречит той, что изложена в этой книге. Я утверждаю, что жизнь и искусство в эпоху модерна способны к безграничной самокритике и самообновлению. Постмодернисты стоят на том, что горизонт модерности схлопнулся, она исчерпала свою энергию – словом, что модерность ушла в прошлое. Социальная мысль постмодернистов высмеивает любые коллективные надежды на моральный и социальный прогресс, на свободу личности и общественное счастье, унаследованные нами от модернистов эпохи Просвещения. Постмодернисты считают, что эти надежды оказались полностью несостоятельны: в лучшем случае это пустые и бесполезные фантазии, в худшем – средства утверждения господства и чудовищного порабощения» (с. 11).
Берман признает, что в 1980-е постмодернизм стал главной темой художественных и литературных дискуссий в США. В новом предисловии источником концепции постмодерна он назвал Барта, Фуко, Деррида, Лиотара и Бодрийяра. Ирония состоит в том, что Берман знал и других постмодернистов – например, литературных критиков Лесли Фидлера, Ихаба Хассана, а также архитектора Чарльза Дженкса, на которых он ссылался уже в первом издании, – однако предпочел отмахнуться от них как от тех, кто «восприняли мистику постмодернизма, который взращивает равнодушие к модерной истории и культуре» (с. 43). Главное, что не удовлетворяло Бермана в постмодерне, – это отказ от целостности модерна и интерпретация модернистских авторов, которые, с точки зрения теоретиков постмодерна, также оказывались «постмодернистами». (В таком случае, возмущался Берман, современность начинается в Средневековье.)
Нам известно, чем все закончилось: на два десятилетия социологи, культурологи и философы погрузились в споры о постмодерне. Книга Бермана в таком контексте оказывалась просто неуместна. Однако, как пишет Терборн:
«Как бы то ни было, два десятилетия постмодернизма, 1980-е и 1990-е, произвели разлом в культурной и социальной мысли. Они и сами являлись симптомом политического и экономического состояния своего времени, которое не было преодолено. Будущее как нечто новое, как различие исчезло за дымовой завесой» [32].
Берман в начале 1980-х предложил позитивную программу будущего. Спасение – и главную цель своей книги – Берман видел в модернизме XIX столетия, позволяющем вдохнуть силы и вдохновение в исчерпавшую себя к 1980-м энергию модерна. С одной стороны, это была хотя бы попытка преодолеть постмодерн, с другой, – это была ностальгия и признание теоретической и философской слабости, а также нежелание ничего менять в своей книге.
В конце концов, Берман был поражен и разочарован тем, на что больше всего возлагал надежд: он обнаружил, что столица Бразилии – Бразилиа, построенная последователями Ле Корбюзье, – совсем не привлекала простых горожан. Немногим позже анархист Джеймс Скотт показал, что высокий модернизм – в том числе в градостроительстве – приводил к негативным социальным последствиям [33]. Еще одну оборотную сторону модернизма обнажил Зигмунт Бауман [34]. Позже Джеффри Александер также указал на «темную сторону современности» [35]. Другими словами, Берман не смог увидеть того, что стало предметом внимания многих социальных теоретиков и философов.
Парадокс заключается в том, что сам тезис «все прочное растворяется в воздухе» больше подходит для описания постмодерна, чем модерна. Как раз поэтому, говоря о теории постмодерна, историк философии Дэвид Уэст обращается именно к Берману, указывая, что все понятийные различия в постмодерную эпоху растворяются в воздухе [36].
Вклад Бермана в теорию модерна до сих пор остается непризнанным. Здесь нечему удивляться, так как этой теории у него нет. Прикрываясь словами о диалектическом понимании модернизма и демократии, Берман рассуждает слишком абстрактно и не слишком беспокоится насчет строгого исторического анализа собственного эмпирического материала. Однако проницательность Бермана проявилась в том, что в итоге именно те, кто принял постмодерн, вернулись к теме модерна. Но вернулись особым образом – социологически. Например, Шмуэль Эйзенштадт предложил модель «множественных современностей». Эта теория предполагала, что современности в единственном числе не существует, она принимает множественные формы в различных обществах. Модернизация в разных цивилизационных контекстах приводит к специфическим общественным формациям [37]. Фредрик Джеймисон фактически принял установку Перри Андерсона, рассматривая явление, называемое эстетическим «модернизмом», как соответствующее ситуации незавершенной модернизации [38]. Джеймисон разрешил проблему Бермана еще более изящно, чем Эйзенштадт, предложив вернуться к Марксу (для которого фраза обо «всем прочном» была синонимом «буржуазной эпохи») и попробовать заменить понятие «современность» на понятие «капитализм» [39], все же отстаивая идею «единственной современности». Так что же мы сегодня имеем в итоге?
Королларий
Сегодня книга Бермана вспоминается лишь как коллекция кейсов, которыми удобно проиллюстрировать тот или иной сюжет, или – в лучшем случае – как вклад в понимание Маркса в качестве теоретика модерна. Но не более того. Решение Бермана не связываться с постмодерном на теоретическом уровне было ошибочным. Берман не только не прояснил для себя, что такое модерн, – он отстранился от самих дискуссий, определявших социальную теорию (в том числе марксистскую) на протяжении двух десятилетий. Политическое решение Бермана не видеть в модерне «темных сторон» было тупиковым. Его стремление мыслить категориями литературы, а не экономики, также не сработало. Тем не менее исторически Берман оказался прав. Левые, от Терборна до Джеймисона, устав от «условий постмодерна», вновь обратились к современности, и сегодня многие из молодых левых интеллектуалов радостно приветствуют проект «современности для левых», в русском переводе получившем название «левая модерность». Однако Бермана в этом проекте нет [40].
[1] Так переводится с английского фраза из «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса, которая при переводе с немецкого на русский звучит как «все сословное и застойное исчезает» (это аллюзия на фразу из «Бури» Шекспира): Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии [1848] // Они же. Сочинения: В 30 т. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 4. С. 427.
[2] Прекрасным примером является пояснение переводчика к переводу немецкой статьи о постмодерне. Автор перевода предупреждает, что слова «модерный», «постмодерный» и «модерность» могут показаться не слишком благозвучными: Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. Международный философский журнал. 1992. № 1(2) (http://ecsocman.hse.ru/data/ 2010/06/21/1212533843/x25B5nie_odnogo_spornogo_ponyatiya.pdf).
[3] Кобрин К. Modernite´ – от женского парфюма до беговой дорожки // Новое литературное обозрение. 2016. № 4(140) (www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/140_nlo_4_2016/article/12052/).
[4] Асад Т. Возникновение секулярного. Христианство, ислам, модерность. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
[5] Например, «левая модерность» в книге: Срничек Н., Уильямс А. Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда. М.: Strelka Press, 2019.
[6] Ассман А. Распалась связь времен. Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
[7] Гумбрехт Г.У. Современный, современность (modern, modernita¨t, moderne´) // Словарь основных исторических понятий: В 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2016. Т. 1. С. 241–296.
[8] Малахов В. Рец. на: Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру / Перев. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2003 // Космополис. 2004–2005. № 4(10). С. 228. В других книгах Владислав Иноземцев и в самом деле передавал постмодерн как «постмодернити».
[9] Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008; Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000; Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011; Оже М. Неместа. Введение в антропологию гипермодерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017; Eisenstadt Sh. Multiple Modernities // Daedalus. 2000. Vol. 129. № 1. P. 1–29.
[10] Berman M. Adventures in Marxism. London: Verso, 2001.
[11] В русскоязычную версию также вошло новое предисловие к книге, опубликованной в издательстве «Penguin» в 1988 году.
[12] См.: Андерсон П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М.: Common Place, 2016; Therborn G. From Marxism to Post-Marxism? London: Verso, 2008.
[13] Berman M. All that Is Solid Melts into Air // Dissent. 1978. Winter (https://archive.org/details/berman_ marshall_all_that_is_solid_melts_into_air_the_experience_of_modernity/page/n5/mode/2up).
[14] Gouldner A.W. The Two Marxisms. Contradictions and Anomalies in the Development of Theory. London: Macmillan & Co, 1980. P. 386.
[15] Jay M. Marxism and Totality. The Adventures of a Concept from Luka´cs to Habermas. Berkley; Los Angeles: University of California Press, 1984. P. 54, 517.
[16] Harvey D. The Condition of Postmodemity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell, 1989. Р. 353.
[17] Kellner D. Media Culture. Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern. London; New York: Routledge, 1995. Р. 44.
[18] Therborn G. Op. cit. Р. 69.
[19] Впрочем, надо отметить, что Лефевра скорее интересовала тема иронии у Маркса. См.: Лефевр А. Введение в современность. Прелюдия первая. Об иронии, майевтике и истории // Неприкосновенный запас. 2012. № 2(82) (www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/82_nz_2_2012/article/18678/).
[20] Стоит заметить, что Берман доводит свои сюжеты XIX столетия до ХХ века, пытаясь вписать Гёте, Бодлера и прочих в «современность», однако эти рассуждения теряются на фоне слишком длинных исторических экскурсов (и даже в этих фрагментах ХХ век часто представлен лишь первой своей половиной). См. с. 92–111, 208–218, 320–364 рецензируемой работы (далее номера страниц указываются в скобках после цитируемого фрагмента).
[21] Pinkney T. Editor’s Introduction: Modernism and Cultural Theory // Williams R. The Politics of Modernism. Against the New Conformists. London: Verso, 1996. Р. 13.
[22] Anderson Р. Modernity and Revolution // New Left Review. 1984. № 144 (https://newleftreview.org/issues/ I144/articles/perry-anderson-modernity-and-revolution).
[23] Ibid. Р. 105.
[24] Berman M. The Signs in the Street: A Response to Perry Anderson // New Left Review. 1984. № 144. Р. 123 (https://newleftreview.org/issues/i144/articles/marshall-berman-the-signs-in-the-street-a-response-to….
[25] Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М.: Издательство Института Гайдара, 2019. С. 607.
[26] Jacoby R. Response to Marshall Berman // Dissent. 2000. Winter (www.dissentmagazine.org/article/responseto-marshall-berman-5).
[27] Kellner D. Op. cit. Р. 142.
[28] Фишер М. Капиталистический реализм. М.: Ультракультура 2.0, 2010. С. 80–82. У переводчика: «все прочное расплавляется в пиар».
[29] Therborn G. Op. cit. Р. 121.
[30] Александер Дж. Модерн, анти-, пост- и нео-: как интеллектуалы объясняют «наше время» // Он же. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М.: Праксис, 2013.
[31] Не лишним будет заметить, что в тот момент многие исследователи обсуждали уже концепцию постмодерна Джеймисона, ключевые тезисы которой появились в том же году и на страницах того же самого издания, что и дискуссия между Андерсоном и Берманом.
[32] Therborn G. Op. cit. Р. 127.
[33] Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2011.
[34] Бауман З. Актуальность Холокоста. М.: Европа, 2010.
[35] Alexander J. The Dark Side of Modernity. Cambridge: Polity, 2013.
[36] Уэст Д. Континентальная философия. Введение. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 324.
[37] Eisenstadt Sh. Op. cit.
[38] Джеймисон Ф. Модернизм как идеология // Неприкосновенный запас. 2014. № 6(98) (www.nlobooks.ru/ magazines/neprikosnovennyy_zapas/98_nz_6_2014/article/11173/).
[39] Jameson F. Singular Modernity. London: Verso, 2002. P. 215. Текст «Модернизм как идеология» – часть данной книги Джеймисона.
[40] Срничек Н., Уильямс А. Указ. соч. С. 103–122.
Модернизм | Архитектура и Проектирование
Модернизм — (фр.modernisme) — обобщающее наименование ряда художественных течений в искусстве XX в. (см. Рационализм, Функционализм, Органическая архитектура и др.).
Модернизм (итал. modernismo «современное течение» от лат. modernus «современный, недавний») — направление в искусстве и литературе XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлеченностью) стиля. Модернистская парадигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX века; во второй же половине века она была подвергнута развёрнутой критике. Термин «модернизм» присущ только отечественной искусствоведческой школе, в западных источниках — это термин «modern». Так как в русской эстетике «модерн» означает художественный стиль предшествующий модернизму, необходимо различать эти два понятия, дабы избежать путаницы.
Модернизм — совокупность художественных направлений в искусстве второй половины девятнадцатого — начала двадцатого столетия. Наиболее значительными модернистскими тенденциями были импрессионизм, символизм, модерн, экспрессионизм, нео- и постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм. А также более поздние течения — абстрактное искусство, дадаизм, сюрреализм. В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя ступень авангардизма, начало пересмотра классических традиций. Датой зарождения модернизма часто называют 1863 год — год открытия в Париже «Салона отверженных», куда принимались работы художников, забракованные жюри официального Салона. В широком смысле модернизм — «другое искусство», главной целью которого является создание оригинальных произведений, основанных на внутренней свободе и особом видении мира автором и несущих новые выразительные средства изобразительного языка.
Выражение «Модернизм в архитектуре» употребляется часто как синоним термина «современная архитектура», но последний термин все-таки шире. Модернизм в архитектуре охватывает творчество пионеров современной архитектуры и их последователей во временном промежутке с начала 20-х годов и по 70 —80 годы (в Европе), когда в архитектуре возникли новые тенденции.
Кредо модернизма заложено в самом его наименовании — это созидание нового («модерн» значит «новый»). То есть, принципиальная установка на новизну архитектуры, — как конструктивных и планировочных идей, так и внешних форм, которые, по мысли архитекторов-модернистов, должны исходить из достижений новых строительных технологий. Образное выражение «призмы из бетона и стекла» хорошо передает общий характер построек модернизма. Основные принципы архитектурного модернизма — использование самых современных строительных материалов, рациональный подход к решению конструкций и внутренних пространств, отсутствие тенденций украшательства, принципиальный отказ от исторических реминесценций в облике сооружений, их «интернациональный» характер. Что касается социальных установок архитекторов-модернистов, то, как правило, они отличались явным демократизмом, а то и левизной, — по крайней мере, во многих декларациях его теоретиков.
Стили-предшественники модернизма в архитектуре, так называемые «неостили», — русский модерн, австрийский сецессион, югенд-стиль в Германии, ар-нуво во Франции, а также неоклассицизм, развившийся позже повсеместно. Последующий за модернизмом стиль – постмодернизм, для которого характерен возврат к использованию элементов традиционных исторических стилей, к элементам иррационального. Модернизм в архитектуре ассоциируется с такими понятиями (движениями), как авангардизм, пуризм, функционализм, конструктивизм, «новое движение», интернациональный стиль, техницизм, минимализм.
Основные представители модернизма, пионеры современной архитектуры, которым принадлежит роль первопроходцев, это — Фрэнк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус, Рихард Нойтра, Мис ван Дер Роэ, Ле Корбюзье, Алвар Аалто, Оскар Нимейер и некоторые другие.
Определение «модернистское» вполне уместно и по отношению к современному зданию, — если по своему виду и по намерениям автора оно соответствует традиционному представлению о модернизме.
Модернизм. Русский модерн. История русской литературы ХХ в. Поэзия Серебряного века: учебное пособие
Модернизм. Русский модерн
В западноевропейском и русском искусстве в конце XIX – начале XX в. наметилась общая тенденция активных формальных и содержательных новаций, возникших в связи с ощущением исчерпанности возможностей предшествующих традиционных художественных приемов и форм. Эстетические поиски кардинального обновления получили название «модернизм» (франц. modernisme, moderne – новейший, современный). Модернизм объединил самые различные направления, течения и школы, которые утверждали новые творческие решения, новое видение мира, новые языки культуры, отражающие динамику современности и новый образ мира, возникший под воздействием открытий точных наук. Модернизм – это общее обозначение тех направлений в искусстве и культуре, которые программно отказались от традиционализма во имя «искусства современности» или «искусства будущего». Главное в модернизме – переосмысление классики, полемическое, подчас демонстративное отталкивание от нее. Символисты и акмеисты по-новому отнеслись к традициям русской классики, реинтерпретировали наследие мировой культуры, но их новаторство не носило кардинального отрицания эстетических норм искусства. Русские символисты заново открыли и переосмыслили наследие Пушкина, Тютчева, Достоевского [5] и Гоголя. Творчество Пушкина для символистов и акмеистов было вершинным явлением, он воспринимался как «вечный спутник». Пушкинские цитаты «пронизывают» тексты многих авторов Серебряного века. В. Брюсов даже дописывал незаконченные пушкинские произведения. Ф. Тютчев воспринимался как поэт-предтеча и русскими символистами, и русскими эгофутуристами. Портрет Тютчева стоял на столе В. Брюсова, мэтра русского символизма. Цитатой из тютчевского известного стихотворения «Люблю грозу в начале мая» – «Громокипящий кубок» – назван известный сборник И. Северянина. Достоевский, гениальный прозорливец человеческой души, стал предтечей глубинного психологизма русской лирики рубежа веков. Его влияние ощутимо в скептицизме и отчаянии Ф. Сологуба, солнечности К. Бальмонта, «истерии» А. Белого, романтизме А. Блока, с его «жаждой тройной жизни», в неприятии террора и утонченного социального насилия О. Мандельштама. Достоевский стихами капитана Лебядкина предвосхитил языковые эксперименты группы ОБЭРИУ. Кроме модернизации традиций русской классики, для искусства начала XX в. характерно частое обращение к традициям античности и других эпох мировой культуры. Исследователи выделяют две линии русского модернизма в восприятии и культурных рецепциях античного: ритуально-мифологическую и эстетическую (или, используя терминологию Ницше, дионисийскую и аполлоновскую), которые сосуществовали параллельно. Ритуально-мифологическое восприятие античности реализуется в символизме, эстетическое – в неоклассицизме. М. Гаспаров дифференцирует эти две тенденции в русском модернизме XX в. как «парнасскую строгость» (при сугубо «светском» понимании символа, символ выступает как «многозначное иносказание», риторический прием) и «символистскую зыбкость» (символ понимается «духовно», он связан с религиозной сферой и выступает «как земной знак несказуемых небесных истин»), «Парнасская» линия выдерживается в творчестве В. Брюсова, К. Бальмонта, позднее Н. Гумилева и О. Мандельштама; религиозно-философская свойственна Д. Мережковскому, З. Гиппиус, Вяч. Иванову, А. Белому, А. Блоку. Художники, ориентированные на неоклассицизм, придерживались иной линии [6]. Подобные линии можно усмотреть и в в музыке С. Танеева, А. Скрябина, И. Стравинского, в живописи и графике В. Серова, Л. Бакста, М. Врубеля, в скульптурных работах П. Трубецкого, С. Коненкова, А. Матвеева.
Резко и принципиально порывает с традициями левый авангард. Модернизм является не столько синонимом авангарда, сколько его преддверием или ранним этапом. Модернизм не стоит путать с модерном. Стиль «модерн» возник в Западной Европе как выражение протеста против антиэстетичности современного образа жизни и был реакцией на позитивизм и прагматизм. Эстетика западного стиля модерн восходила к «философии жизни» Ф. Ницше. Цель заключалась в преобразовании среды обитания человека по законам красоты, создании эстетически насыщенного пространства. Особую роль играли предметы, которые должны были не только украшать быт и служить частью интерьера, но своим стилем и функциональностью призваны были выражать духовное содержание эпохи. К искусству приобщались все сферы жизнедеятельности, что значительно расширяло возможности новых подходов к конструированию и моделированию как в прикладных искусствах, так и в сфере собственно искусства. Русский модерн стал продолжением европейского модерна и был проявлен в различных областях прикладного искусства, журнальных иллюстрациях и живописи художников «Мира искусства», архитектуре и музыке.
Внутри русского модернизма эпохи Серебряного века сложились и развивались различные идейно-художественные направления и течения: символизм, акмеизм, футуризм. Направления и течения в искусстве – понятия, обозначающие принципиальную общность художественных явлений на протяжении определенного времени. Черты, объединяющие художников в том или ином направлении, течении или стиле, присущи идейно-эстетическому уровню. В современной эстетике нет единого взгляда на соотношение и объем понятий «направление» и «течение» [7]. Направление рассматривается как более широкая категория, охватывающая единство мировосприятия, эстетических взглядов, способов отображения жизни и связанная со своеобразием художественных стилей (например, классицизм, реализм, романтизм, натурализм, символизм). Такое единство часто охватывает все или многие виды искусства. Под течением обычно понимается более тесная группировка в пределах направления или менее многочисленное (менее значимое, с точки зрения всей парадигмы культуры) объединение художников с общностью идей и эстетических установок. Принадлежность художников к одному направлению или течению не исключает глубоких различий их творческих индивидуальностей.
Самым широким направлением в литературе рубежа XIX–XX вв. стал символизм, к постсимволистским течениям относятся акмеизм, футуризм, во всех его разновидностях (кубофутуризм и эгофутуризм), имажинизм.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесНаправления и стили в искусстве — Модернизм
- Просмотров: 41755
Модернизм, направление в искусстве XX века
Модернизм (франц. modernisme, от moderne — новейший, современный), обобщающее наименование ряда художественных течений XX в., заключающих глубокий кризис буржуазной культуры эпохи империализма; основная направленность буржуазного искусства этого времени. Модернизму свойственны принципиальный разрыв с историческим опытом художественного творчества, его взаимоотношения с жизнью и восприятия зрителем, стремление утвердить некие новые начала искусства, сводящиеся к непрестанному самоценному обновлению художественных форм. Представляя собой своего рода кризисную форму отражения кризисных явлений жизни, модернизм в конечном счёте ведёт к распаду искусства как вида эстетической деятельности. Выступив в начале XX в. с претензией на всеобщее обновление искусства, модернизм переживает сложную историю, этапы которой обусловлены его борьбой с реализмом, а также сложными внутренними причинами, В начале XX в. течениям модернизма (фовизм, кубизм, футуризм, абстрактное искусство) свойственны авангардистские тенденции. Тревожные переживания исторических событий и неудовлетворённость существующей социальной действительностью определяли внутреннее противоречие ряда течений модернизма первой половины XX в.: антибуржуазная, бунтарская направленность уживалась в них с антидемократической идейно-художественной сущностью. К концу 10 — началу 20-х гг. модернизм пережил острый кризис; значительная часть его сторонников (П. Пикассо, А. Дерен и др.) обратились к реальной действительности. К середине XX в. ряд течений модернизма (как обратившихся к рациональной, «чистой», максимально геометризованной форме, так и базирующихся на принципах иррационализма, воспринимающих мир в фантастическом зеркале подсознания), принципиально отказавшихся от изображения действительности и ушедших в мир отвлечённых, формально-пластических фактурных и колористических исканий (в первую очередь абстрактное искусство и сюрреализм), органически «вписались» в буржуазную культуру и буржуазный быт, стали официально признанным искусством. В буржуазном мире модернизм приобрёл свою «рыночную стоимость» в которой главную роль играла новизна манеры художника. Это обстоятельство породило множество спекулятивных форм и манер, а порой и экспериментальных поисков, получивших отклик в процессе развития художественного языка современного искусства. В 40-х гг. в Европе и США (куда переехали многие представители модернизма) рождаются его новые направления, демонстрирующие все излишества опустошённого, а то и прямо извращённого художественного сознания, проповедующие «тотальное освобождение» от объекта и методы «чистого психического автоматизма» («абстрактный экспрессионизм», «абстрактный каллиграфизм» и др.). Абстракционизм занял официально привилегированное положение и противопоставлялся всем видам социально ангажированного реалистического искусства. В конце 50-х гг. отвлеченные течения модернизма теряют свои позиции. Поп-арт провозгласил «возвращение к предмету» и противопоставил всем предшествовавшим течениям модернизма отказ от «элитарности» искусства, стремление растворить его в жизненной среде. Подменив реальность алогичными комбинациями разнохарактерных муляжей, поп-арт, как и другие течения модернизма остался замкнутым в кругу самодовлеющих формальных экспериментов. Вслед за поп-артом развились направления, ещё нигилистичнее относящиеся к гуманистическим идеалам, к возможности борьбы средствами искусства за лучшее устройство общества: «минимальное искусство», не выходящее за пределы простейших геометрических форм; «земляное искусство», манипулирующее мешками с землёй, бороздами и насыпями; концептуальное искусство, в котором изобразительность уступила место чисто умозрительным концепциям и таинственным словесным намёкам, а также различные направления неокубизма, неоэкспрессионизма, неоабстракционизма и т. д.
В конце 60-х гг. модернизм переживает потрясение под ударами леворадикального, особенно молодёжного движения, выдвинувшего лозунг «контркультуры», В контркультуре совмещались как критика капиталистической системы и её духовных ценностей, так и призывы и практическим действия к самоуничтожению искусства, то есть соединялись элементы антимодернизма с модернистскими содержанием и формой. В начале 70-х гг. в Западной Европе и США повышенное внимание стало уделяться «предметности» изображения. На первый план выдвинулось направление гиперреализма, ставящее своей формальной задачей имитационно точное воспроизведение фотографии, а также кино- и телекадров. В этой форме нашёл выражение порыв ряда художников, большей частью молодых, к изобразительности, в конце 70-х — начале 80-х гг. вылившийся в широкое и неоднородное движение постмодернизма, позволившее поставить вопрос об общем кризисе модернизма в 80-х гг., не исключающий, однако, того, что буржуазная культура сможет породить в дальнейшем новые движения модернизма. Но кризис модернизма решительным образом подорвал изнутри его претензии на всемирное историко-художественное значение, на установление неких новых законов развития искусства.
Новейшему модернизу, как и прежде, противостоят прогрессивные мастера мирового искусства, связавшие своё творчество с интересами рабочего класса, с революционным движением. Искусство социалистического реализма и прогрессивное искусство зарубежных стран развиваются в постоянном столкновении и борьбе с течениями модернизма, ставя задачу сохранения и продолжения гуманистических и демократических традиций мировой культуры.
Лит.: В. И. Ленин, О литературе и искусстве, [Сб.], 6 изд., М., 1979; Модернизм. Анализ и критика основных направлений, [3 изд.], М., 1980; И. С. Куликова, Философия и искусство модернизма, 2 изд., М., 1980.
Основы идеологии модернизма | Anthropology
1. Историко-философские проблемы определения модернизма
При первом приближении к проблеме модернизма становится очевидным вопрос о хронологических рамках этого течения. Понятие модернизма связано большей частью с искусствоведением, поэтому само по себе нуждается в более точном философском и историческом понимании и определении. По большому счёту, можно выделить хронологические системы, которые предлагает нам историческая наука, основывающаяся на политической истории и художественная истории. Первая кладёт в основу принципы социально-экономического развития и политические изменения, поэтому традиционными предметами рассмотрения для исторической науки являются взаимоотношения личности и общества, социальные революции и изменения, социальное устройство и общественные отношения, формы производства, которые определяют эти социальные связи. Вторая традиция принимает за точку отсчёта смену художественных стилей и эстетических представлений. В данном случае уже не политические и социальные события оказываются предметом исторического исследования (хотя они непосредственно влияют на историю искусств), а изменения в художественной сфере. В результате социальная и политическая история не знает таких «эпох», как «возрождение», «барокко», «романтизм», «авангард» и пр., столь прочно вошедших в обиход историков искусства. С другой стороны, история искусств предлагает более мелкое хронологическое дробление, что связано с развитием искусств и увеличением количества художественных стилей в 18 — 19 веках. Это несоответствие хронологических систем затрудняет анализ некоторых общекультурных феноменов, общий как для художественной, так и для интеллектуальной жизни Европы. Однако разграничение и критика этих и других хронологических принципов не является предметом настоящего рассмотрения и заслуживает отдельного разбирательства, которое, несомненно, последует.
Модернизм традиционно понимался как художественное направление конца XIX — начала ХХ века. Сарабьянов Д.В. отмечает, что стиль модерн окончательно утвердился в 80-90-е гг. XIX века [21, С. 9]. Подобное понимание модернизма даёт нам искусствоведение, однако, для философского анализа модернизма как интеллектуального течения подобное понимание не может считаться всецелым и удовлетворительным, так как собственно специфика философии модернизма, которой и посвящена данная работа, не может быть раскрыта в рамках искусствоведения. Следовательно, необходимо рассмотреть более подробно феномен модернизма в философии, так как история философия является самостоятельной дисциплиной, а значит, не должна перенимать хронологию других (смежный) наук, но способна предложить собственное понимание историко-философского процесса развития теоретической мысли. Тем более что мы имеем полное право на постановку вопроса о собственно философском содержании модернизма, ибо модернизм был первым течением, охватившем все сферы культуры и ориентированным на синтез религиозный, философских и искусствоведческих идей: именно модерн создаёт идею единой религии, основанной на синтезе оккультизма, мистики и христианства, единого искусства (Р. Вагнер, С. Дягилев), единой (для всех времён) философии (Ф. Ницше). Федотова В.Г. полагает, что если модернизм представляет собой логику нового видения мира, то эта логика не может касаться какой-либо изолированной области. Однако работы историков, социологов и искусствоведов оказываются весьма востребованными в предпринятом нами исследовании, так как представляют достаточно полную картину культурной и интеллектуальной жизни модернизма.
В рамках историко-философского исследования модернизм следует понимать как идеологическое течение в европейской философии, направленное на преобразование и обновление. В этом смысле модернизм как идеологическое явление противопоставляется идеологии традиционного общества, основанной, во-первых, на доминировании традиции над инновацией, а, во-вторых, опирающейся на религиозное или мифологическое оправдание этой традиции. Поэтому одним из ключевых аспектов модернизации Федотова В.Г. называет становление индивидуальности и доминирование новаторства над традицией.
Следует сделать оговорку, что я не ставлю в настоящем исследовании задачи строго определить хронологические рамки модернизма, а также я не называю модернистами всех философов, которые жили в конце XIX — начале XX века. Я не полагаю, что все мыслители этого периода могут быть однозначно причислены к модернизму. В данной же работе я доказываю, что модернизм является, прежде всего, идеологическим течением, поэтому в работах многих философов, социологов, теологов, лингвистов, экономистов этого периода мы можем обнаружить прямой или косвенное влияние модернизма. В данной работе мы остановлюсь на рассмотрении наиболее ярких представителях модернизма.
Для более полного понимания модернизма обратимся к историческому осмыслению этого явления. Существует несколько пониманий феномена модерности в истории искусств, социологии и в философии. [См.: 29]. Разногласия заключаются в определении хронологических рамок эпохи модерна: если понимать модернизм как мировоззрение, ориентирующееся на индивидуальность и научное познание, то исторические рамки эпохи модерна совпадают с рамками философии Нового времени (когда обосновываются принципы научного познания и рационализм у Бэкона, Декарта, Канта). Если принять данную версию, то модернизмом следует считать рационалистическую философию, связанную с идеей независимости и активности субъекта, настаивающей на научности философского познания и категориальном характере языка философии, которая нашла своё продолжение в позитивизме и современной аналитической философии. В этом случае феномен модернизма в философии тесным образом связан с переходом от традиционного общества к индустриальному, то есть со становлением капитализма, с появлением самостоятельности индивида, способного преобразовывать мир по собственной воле. Поэтому М.М. Фёдорова связывает развитие модернизма с научной революцией, означавшая переход от видения мира как управляемого божественным промыслом, к осмыслению мировых процессов как саморегулируемых; в результате на смену символическому единству в миропонимании приходит такая картина мира, в которой человек отделен от природы и пытается всячески с ней соединиться путем подчинения ее своей мысли и воле; в мире все подчинено законам механики, и эти законы призван познать человек. [См.: 30]. Однако если мы примем эту систему отсчёта, то рискуем совершить две ошибки. С одной стороны, соглашаясь с тем, что модернизм совпадает по времени с возникновением новоевропейского рационализма, мы рискуем отождествить модернизм с идеологией капитализма. В этом случае ставится под сомнение правомерность использование самого понятия «модерн». С другой стороны, мы рискуем однозначно прямым (и довольно грубым) образом связать развитие философии и развитие социальных отношений. Нельзя не признать, что социальное развитие оказывает влияние на развитие идеологии, но некорректно говорить о том, что социальное и культурное развитие прямо пропорциональны друг другу и культура только отражает и повторяет этапы социального развития. И наконец, если мы согласимся с тем, что модернизм хронологически совпадает с философией Нового времени, то м с необходимостью должны признать необходимость использования много термина для философии начала ХХ века, которая коренный образом отличается от философии Нового времени.
С точки зрения другой традиции, модернизм можно понимать как мировоззрение ориентированное на отрицание традиционных основ. В этом смысле, хронологические рамки модернизма вовсе неопределимы, более того, снимается сам вопрос об историческом положении модернизма. Здесь можно согласиться с У. Эко в том, что любая эпоха имеет свой модернизм, то есть идеологическое стремление к новаторству и переосмыслению традиции. Подобная точка зрения является более философской, однако, также не даёт полного представления о феномене модерна в философии. В этом случае, модернизм конца XIX — начала ХХ веков можно понимать как ещё одно течения в ряду других, стремившихся к обновлению традиционных установок и ценностей. Однако некоторые философы и исследователи увидели в смене культурных стилей знак конца XIX века некий существенный сдвиг, переход к еще принципиально новому, перерождение в «новую современность» (В. Беньямин).
В рамках данного исследования я понимаю модернизм как общекультурное течение (идеологию) конца XIX — XX вв., ориентированную на современность, то есть признающую приоритет современного над традиционным. По большому счёту модернизм и является «проектом современности», как говорит о нём Хабермас. С одной стороны, мы имеем дело с совершенно новым принципом проектирования, которые не был популярен в новоевропейской философии, с другой стороны, этот проект заведомо оказывается невыполнимым, ибо ориентируется на постоянно изменяющуюся современность, а значит, обречён всегда оставаться незавершённым. В этом смысле, модернизм ориентирован не просто на новое, а на постоянное обновление. Таким образом, проект модернизма — это проект вечного обновления, погоня за актуальностью, модой. М. Берман пишет: «Быть современным, значит находиться в окружении, обещающем приключения, власть, игру, рост, изменения самого себя и мира. И в то же время — это угроза разрушения всего, что мы имеем, что мы знаем, всего, что мы есть. Современный жизненный опыт не знает географических и этнических границ, классовых, национальных, религиозных и идеологических различий; в данном смысле можно говорить, что современность объединяет все человечество. Но это единство носит парадоксальный характер, это единство различия: оно обрушивается на каждого человека водоворотом постоянных разъединений и обновлений, борьбы и противоречий, двойственности и страдания. Быть современным — значит быть частью мира, в котором, по словам Маркса, все основательное взлетает на воздух». [50, p. 15]. Таким образом, модернист обречён находиться в постоянном сомнении, ощущать собственную окраинность, отсутствие почвы у себя под ногами. Его состояние идеологической невесомости неизбежно оборачивается для него ностальгией по классической стабильности, возвращение к которой он, тем не менее, считает неприемлемым.
Как следствие, можно наблюдать культ нового, погоню за современностью. Новое в данном случае является продуктом прогресса и развития технических сил человечка и его разума. Фёдорова М.М, полагает, что фокусом современных (модернистских) обществ выступает индивидуальность, вырастающая на пересечении инноваций, секуляризации и демократизации. Активная деятельность ради будущего, а не только сегодняшнего потребления порождает здесь тип трудоголика, постоянно готового к жизненной гонке.
2. Влияние идеологии модернизма на философию постмодернизма
Однако модернизм нельзя назвать рационализмом в строгом смысле (как рационализм картезианства, где разум понимается как самодостаточная субстанция), он, скорее, является модификацией рационализма. С одной стороны, может показаться, что модернисты выступают против рационализма, ибо и Ницше, и Фрейд, и Джеймс, и Франк отрицают господствующее положение разума. Но, с другой стороны, никого из них мы не можем назвать иррационалистами или мистиками, ибо каждый из названных философов имеет чёткую идеологию (не обязательно философскую систему, но непротиворечивую и последовательную совокупность философских идей, т.е. идеологию). Так, например, для Фрейда все желания Оно являются вполне ясными и конкретными, но недоступными для понимания самого пациента, в то время как психоаналитик способен не только узнать эти желания, но и помочь пациенту повлиять на них. Если подсознание может быть познано разумом, значит оно функционирует как разумное. С одной стороны, для Фрейда разум (пациента) оказывается бессильным перед подсознанием, но, с другой стороны, торжествует разум психоаналитика, способного узнать истинное содержание человеческой психики. Подобным же образом и Ницше отрицает не разум как таковой, а лишь те формы разума, которые противоречат жизни, которые подавляют жизненную силу человека, обращая его в фарисейство. В то же время жизненная сила, которую воспевает Ницше, движется волей, устроенной по разумным (прагматическими) принципам выживания, силы и продолжения рода. Жизненные необходимости человека (как и либидо у Фрейда) имеют вполне логический характер, они не только могут быть осознаны разумом и членораздельно высказаны, но они уже осознаны и высказаны самим Ницше. Также и Джеймс при описании религии говорит о том, что «сила разума меркнет перед мистикой» [57, p. 412], и, казалось бы, отрицает значение и силу разума в религиозной жизни человека, но, тем не мене, он говорит о вере как вполне логичной и разумной силе, вслед за Лютером, выделяя две составляющие веры: интеллектуальную и интуитивную, первая из которых апеллирует к доказательству бытия бога, вторая является более витальной и даётся раз и навсегда. [57, p. 245]. Таким образом, вера, для Джеймса, не представляет собой нечто мистическое и иррациональное, ибо всякая вера является для него «биологическим и психологическим состоянием». [57, p. 481]. Хотя вера основывается скорее на чувствах, а не на разуме (здесь Джеймс использует термин профессора Леуба «состояние-вера»), тем не менее, это «состояние-вера» может быть понято и описано в научно. Таким образом, веру он понимает как вполне ясное психологическое состояние человека, которое не только поддаётся анализу, но и может быть познано разумом. Хотя разум не является основным компонентом вера, тем не менее, феномен веры может быть понят разумом.
Итак, модернизм ориентируется не просто на разум как субстанцию, но на особые формы разума: экономического разума и К. Маркса, психоаналитического разума у З. Фрейда, религиозного разума у С. Франка, интуитивного разума у У. Джеймса, волевого разума у Ф. Ницше, полового разума у В. Розанова и т.п. К. Маркс предпринимает попытку построения онтологии (и теории познания) через экономическое понимание мира, то есть мира товарного производства, где центральным звеном его теории становится экономический разум. Маркс пишет: «Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель их общественных отношений, при которых совершается труд» [8, С. 191] Итак, через экономическое осмысление производства даётся и онтологическая, и социальная, и политическая, и историческая картина.
Таким образом, мы можем наблюдать определённую тенденцию к поиску окраинного положения, в данном случае, по отношению к классическому европейскому рационализму. Поиск пределов, границ разума так или иначе преобладает во всех системах вышеназванных философов: поиск приделов и взаимоотношений идеологии и науки у К. Маркса (последняя существует «на почве действительной истории») [9, Т. 3, С. 37], поиск границ сознательного и бессознательного у З. Фрейда [62, p. 133], веры-доверия и веры-знаниия у С. Франка [37, С. 224], интеллектуального и чувственного у У. Джеймса [57, p. 414], рационального и генитального у В. Розанова [19, Т. 2, С. 250] и т.д. Прослеживается общая тенденция бегства от разионализма, который утверждал центральность понятия «разум», стремление к переосмыслению (с позиций экономики, политики, психоанализа, мистики, религиозной идеологии, волюнтаризма и т.п.) центрального положения разума, т.е. определённого рода деконструкция центральности. Как полагает К. Шрэг, именно через критику и преодоление системы Гегеля К. Марксу (наряду с Фейербахом и Кьеркегором) удаётся добиться «значительного признания через внимание к недостаткам гегельянства» [61, p. 6]. Таким образом, если классическая философия обращала своё пристальное внимание прежде всего на центральное, главное, то для модернизма большей привлекательностью обладает окраинное, пограничное. Таким образом, модернизм, как идеология обновления, всегда стремится к поиску пограничных областей знания, которые не были ещё исследованы. С другой стороны, модернизм стремится к переосмыслению предшествующих традиций, что также влечёт за собой идеологическое смещение в пограничные области знания. В конечном итоге, модернизм стремится к синтезу искусства, морали и знания.
Поэтому к модернизму не могут быть причислены представители рационализма, зарекомендовавшие себя как наиболее последовательные идеологи центральности, так как европейская метафизика в классическом её варианте вовсе избегает разговора о ненормальном, злом, единичном, пассивном, больном, женском, периферийном, ориентируясь на массовое, благое, всеобщем, активном, здоровом, мужском, центральном. Однако как большинство философов Нового времени, так и большинство модернистов ведут повествования с позиции учёного, исследователя, аналитика, при этом, создают собственную позитивную систему идей. Этот факт, несомненно, роднит модернизм с философией Нового времени. Однако отличительных между ними много больше, чем сходств.
Несмотря на то, что Декарт полагает основанием человеческой психики механическое устройство, которое вообще является универсальным и распространяется им как на животный мир, так и на неживую природу, тем не менее, он вводит ограничения, избегая говорить об отклонениях или окраинных формах сознания. По его мнению, лишь о мыслящем (равно рационально мыслящем) я можно говорить как о существующем, в то время как не-рационально-мыслящее (или мыслящее по иным законам) сознание, не является существующим, следовательно, не становится объектом его рассмотрения. Таким образом, Декарт, как и большинство философов Нового времени, исключает из рассмотрения детское и женское сознание, а также сознания сумасшедшего. Поэтому рационализм Декарта не обладает тотальностью, необходимой для идеологии модернизма.
Иными словами, модернисты не могут удовлетвориться только описанием и исследованием внешней формы явлений, к чему неминуемо ведёт установка на всеобщность, массовость и центральность. Модернизм также ориентирован на поиск универсальных оснований сознания, но, по мнению модернистов, эти основания скрыты в глубине сознания. Если для рационализма истина лежит на поверхности и является сознанию как ясная и чёткая (clare et distincte), а всё, что не может быть сформулировано логически (мистика, бред, лепет), не является научным, следовательно, не обладает истиной, то модернисты полагают, что внешнее является лишь ширмой, модификацией и проявлением внутренней силы или, как говорит, В. Соловьёв «внутренней целости». Описывая исторический процесс, В.С. Соловьёв говорит: «Но человечество не есть мертвое тело и история не есть механическое движение [на чём настаивал Декарт — Д.О.], а потому необходимо присутствие третей силы, которая дают положительное содержание двум первым, освобождает их от их исключительности, примиряет единство высшего начала со свободной множественностью частных форм и элементов, созидает таким образом целость общечеловеческого организма и даёт ему внутреннюю стихию жизнь». [28, С. 29]. Именно эта внутренняя жизнь является, по мнению В.С. Соловьёва, подлинной, в то время как внешние проявления человека, так и развитие истории, оказываются лишь следствием этой реальной (глубинной) жизни. Модернизм ориентируется на поиск глубинных оснований человеческой личности. Поэтому одной из ключевых проблем модернизма является проблема глубины, которая имеет религиозное происхождение, ибо модернизм основывается на вере в невидимое, неощущаемой (подсознание, воля, развитие истории), о существовании и функционировании которого можно лишь догадываться по определённым знакам (оговоркам, борьбой за выживание, социальным революциям), которое способен прочитывать лишь избранный (аналитик, философ жизни, классовый лидер). Если истина для классической философии есть нечто лежащее на поверхности, то для модернизма истина оказывается скрытой за поверхностью слов, событий, знаков. Если для классической философии истина (ещё со времён Аристотеля) являлась очевидным фактом соответствия реальности и его представления в разуме, то для модернистов истина оказывается сокрытой и не может быть сформулирована и высказана, но может быть лишь интерпретирована в рамках реального контекста. Таким образом, истина, для Джеймса, есть лишь тот факт, который в данном контексте удобно считать истиной. Истина, для модернистов, это не соответствие представления реальным вещам, но соответствие высказывания определённому контексту, т.е. другим высказываниям. Поэтому психоанализ оказывается очень близок герменевтике как искусству понимания и толкования текстов, ибо истинная сущность сознания человека (его желания, силы и устремления), покоятся под покровом слов, которые он говорит, и проговаривается в этих словах. Собственно, поэтому позже Лакан скажет о том, что бессознательное проговаривается на языке. Фрейд также полагает, что истиной является именно бессознательное (глубинное), а не реальное, внешнее. Равным образом и Вл. Соловьёв полагает, что истинным содержанием человека является духовное, покоящееся в глубине его личности, в то время как внешняя жизнь человека коренится и черпает силы из этого внутреннего духовного средоточия.
Кроме того, есть ещё несколько основания для разделения классической рационалистической философии и философии модернизма. Во-первых, если классический рационализм полагает независимость субъекта познания от объекта, которому приписываются характеристики пассивности, то модернизм настаивает на со-природности и взаимосвязи субъекта и объекта познания. Так, например, для Фрейда и аналитик, и пациент не противопоставляются друг другу как здоровое и больное, но находятся в одном поле языка, в котором и происходит их взаимодействие и сам процесс лечения (talking cure). При этом отличие аналитика от пациента заключается в том, что он более является более компетентным лингвистом и герменевтом, т.е. он способен улавливать и интерпретировать замалчивания, метафорические обороты и оговорки в речи пациента, которые кажется самому пациенту несущественными. Лечение в данном случае происходит не при помощи вторжения и насилия (препарирования) над объектом, но при помощи общего для пациента и аналитика языка, которому они оба принадлежат. Врачевание понимается Фрейдом не как изгнание болезни при помощи конкретных (инородных для пациента) орудий медицины, но как взаимодействие аналитика и пациента в общем для них обоих языковом поле. Равным образом и К. Маркс говорит о том, что противостоящие классы находятся в одном том же социальной пространстве. В этом смысле, мы не можем говорить об автономности классов, независимости их друг от друга. Здесь следует говорить, скорее, об их взаимодействии, реализуемом в классовой борьбе. Итак, модернизм в лице З. Фрейда, К. Маркса, А. Бергсона, Н.О. Лосского (создавшего идею «гносеологической координации») наиболее последовательно проводит идею синтеза субъекта и объекта.
Во-вторых, мир понимается модернистами не механически, т.е. он не функционирует по однажды установленным законам разума, но постоянно стремится избежать этих законов. В этом смысле, мир скорее напоминает организм, который постоянно развивается и преодолевает прежние состояния. Таким образом, модернисты отрицают строгий детерминизм, на котором настаивал рационализм, исходивший из идеи механического устройства мира. Так, например, Фрейд не берётся предсказывать, каким образом скажется то или иное событие, факт жизни на будущем психическом состоянии пациента. Но с другой стороны, он полагает, что любое настоящее состояние психики может быть понято и объяснено на основании предыдущего опыта пациента. В этом смысле, развитый модернизм, в отличие от раннего модернизма, избегает прогнозов и проектирования будущего. В то время как новоевропейская философия как раз и является наиболее ярким примером социального проектирования (в лице Макиавелли, Гоббса, Монтескье) и попыток выявления универсальных законов бытия (таких как, врождённые идеи у Декарта), значимых для всех времён и народов.
Итак, модернизм, в отличие от классической философии направлен не просто на описание мира, но исходит из того, что человек сам способен изменять этот мир. В этом смысле один из лозунгов модернизма был сформулирован К. Марксом: «Философы лишь разным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Таким образом, если немецкая классическая философия в лице Канта и Гегеля полагала существование некоторого автономного начала, не зависящего от самого человека, но определяющего его жизнь, которому человек так или иначе должен был подчиняться (будь то категорический императив, априорные формы или саморазвитие абсолютной идеи), то для модернистов именно внутренние (скрытые) силы самого человека: воля (у Ницше), подсознание (у Фрейда), классовая идеология (у Маркса) — предстают как миро-образующая сила, так и движущая сила истории. В этом смысле значительное влияние на развитие модернизма оказало неокантианство и феноменология.
Если для классической философии основным предметом является описание данной системы бытия, т. е. онтология, то смыслом жизни и условием счастья человека, с точки зрения классической философии, становятся его возможности адекватно вписаться в уже созданный мир, принять данные ему правила игры. Если априорные формы и абсолютная идея оказываются чем-то внешним автономным по отношению к человеку, то последний только должен осознать и принять их существование как необходимость. Отсюда прямо следует тезис, заимствованные Гегелем у Спинозы о том, что свобода — есть осознанная необходимость. Человек, стало быть, может быть свободен только тогда, когда осознает неизбежное влияние на него абсолютной идеи, и свою вписанность в трансцендентный путь её развития.
Модернист же не может позволить себе победную веру в абстрактный идеал. Для модернизма мир является не только объектом изменения и преобразования (как собственно и для философа нового времени), но и конкретным орудием для достижения личной или общественной пользы. В этом смысле симптоматично, что прагматизм, возникший именно в эпоху модерна оказывается близок философии жизни. Таким образом, философия становится не просто теорией и даже не способом познания мира, а непосредственным способом достижения блага. Следовательно, в философии, истории и искусстве нуждаются лишь постольку, поскольку они являются необходимыми для достижения той иди иной жизненной цели. Этот тезис наиболее ясно выразил Ницше, говоря, что «Таковы услуги, которые может оказать жизни история; каждый человек и каждый народ нуждаются, смотря по его целям, силам и потребностям, в известном знакомстве с прошлым». [13, C. 179]. Таким образом, знание, для Ницше, становится не самоцелью (и тем более перестаёт быть объектом поклонения), а становится орудием в жизненной борьбе. Таким же орудием является и психоанализ Фрейда, призванный выполнять конкретные прикладные функции врачевания. Психоанализ был для самого Фрейда, прежде всего, разделом медицинской науки и психотерапевтическим методом, а уже последователи и ученики Фрейда непосредственно сблизили психоанализ с литературной и художественной критикой. Также и Франк пишет книгу «С нами Бог» не как теологический трактат, а как прикладное пособие для решения конкретных проблем верующего.
Если классическая философия аналитична и склонна к строгому определению границ и разделению научных областей знания ещё со времён К. Вольфа, давшего наиболее авторитетное для классической мысли деление философии, то модернизм, напротив, стремится к сближению различных сфер искусства и знания. В искусствоведении широко распространён такое термин как «панэстетизм», то есть понятие о мире как об искусстве. В этом смысле символично название дягилевского объединения — «Мир искусства». Характерно стремление модерна к синтезу различных искусств и создание некого всеобщего искусства или всеобщей мифологии, как отмечает Д.В. арабьянов [21, С. 188]. Также и философия модернизма испытала влияние этой художественной традиции: будь то идея всеединства у Вл. Соловьёва или идей Вагнера о единстве искусств, заимствованные Ницше. Модерн вообще оказывается в сложных отношениях с предшествующими течениями, так как с одной стороны, модерн полон решимости разрушить старые традиции, уничтожить старых кумиров, с другой стороны, постоянно оказывается в зависимости от них и обнаруживает свои исторические корни. Эта идея синтеза уже сама по себе предполагает наличие некоего высшего начала (абсолюта), который является источником всякой человеческой деятельности и в котором, в конечном счёте, должны соединиться все искусства, мораль и знание. В частности, для В.С. Соловьёва таким абсолютом является бог, который является источником всякой жизни и от которого исходит и добро, и красота, и мудрость. Таким образом, синтез может быть осуществлен только религиозным путём, то есть обращением к богу. Для Фрейда таким источникам жизни становится Оно, следовательно, основания всякой активности Фрейд усматривает в подсознательных желаниях человека. Перенесение и использования сексуальной энергии в области творчества или науки, он называет сублимацией. Равно как и Ницше предполагает, что все формы деятельности человека имеют один источник — волю в жизни. В данном случае можно обнаружить историческую оппозиционность модернизма по отношению к классической философии, которая (в свою очередь, в отличие от Возрождения) настаивала на строгом обособлении наук и искусств и чёткой специализации наук.
Отношения модерна с предшествующей (классической) традицией весьма неоднозначны. И именно тема истории становится одной из основных проблем для философского самоопределения модернизма, как культа нового. С одной стороны, в своём забвении классики, модерн отрицает историю, преемственность, отцовство. Модернизм претендует на определённое идеологическое сиротство, равно как и на оригинальность и универсальную значимость высказываний. В конечном счёте, модерн не только стремится к отрицанию и осмеянию (классической) истории и всех классических ценностей, в лице Ницше, Фрейда, Маркса, но и к их забвению. Модерн как движение за господство «нового», полагает слабость предшествующих течений, и, в конечном счёте, стремится к преодолению и переосмыслению классики. Ницше пишет: «Таким образом, жить почти без воспоминаний, и даже счастливо жить без них, вполне возможно, как показывает пример животного; но совершенно безусловно невозможно жить без возможности забвения вообще». [13, С. 162-163]. Фигура забвения также оказывается центральной и для современных форм модернизма, критика идеологии строится на её отрицании и ориентирована на её забвение, как критика Бодрийяра в адрес Фуко. Однако и проект забвения оказывается незавершённым проектом. Такие же мотивы забвения истории мы находим и в религиозной философии С.Л. Франка: «Старые боги постигнуты и развенчаны, как мертвые кумиры, но откровение новой истины ещё не явилось человеческой душе и не захватило её». [32, С. 16-17]. В данном случае он также говорит о бессилии прошлых традиций над современной жизнью, хотя далее Франк полагает, что и современная традиция понимания истории также бессильна перед единственной над-исторической силой, то есть верой.
Хотя модерн всегда стремится к изживанию самой истории (т.е. линейного развития), ибо только таким образом может быть утверждён подлинный культ нового, однако, этот проект по забвению истории, как и все другие модерные проекты, отказывается лишь мечтой и фикцией, ибо новое (modern) возможно только как постоянная негация и критика классики. В этом смысле модерн нуждается в истории, которую можно подвергать критике, деконструкции и забвению, но которой сам модерн неминуемо принадлежит, хотя и всячески отрицает это родство. История, в снятом виде, оказывается необходимым элементом модерного мышления и, подобно фрейдовскому бессознательному, постоянно проговаривается в текстах модернистов, а также мотивирует те или иные тексты модернистов. Ницше также пишет об истории: «Конечно, нам нужна история, но мы нуждаемся в ней иначе, чем избалованный и праздный любитель в саду знания, с каким бы высокомерным пренебрежением последний не смотрел на наши грубые и неизящные потребности и нужды». [13, С. 159]. Ницше в данном случае говорит о том, что история необходима для удовлетворения вполне определённых нужд людей, которые сами творят историю, а не принадлежит ей. Таким образом, «жизнь нуждается в услугах истории» [13, C. 168], а не наоборот, как полагала классическая традиция, что исторические принципы являются первостепенными для развития жизни. С одной стороны, он доказывает невозможность полного забвения, с другой стороны, стремится разрушить представление об истории как однонаправленном линейном процессе, стремится стать торцом истории. Таким образом, модернизм приходит к невозможности забвения, ибо отрицание истории неминуемо обращается риторическим бессилием, как говорит об этом У. Эко: «прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведёт к немоте». [48, С. 636]. По его мнению, модерная попытка забвения истории является лишь наивной надеждой модернизма, не имеющей шансов воплотиться в жизнь. Ибо эта модерная обращённость на себя и возвеличивание Автора, господствующего в тексте, и постоянно стремился продемонстрировать собственную уникальность путём отрицания истории, в конечном счёте, приходит к самоотрицанию. Таким образом, попытка создания некоего позитивного идеологического синтеза, становится наивной грёзой, в которой и обречён пребывать модернист.
Что касается влияния модернизма на последующее развитие истории философии, то здесь можно назвать активное заимствование со стороны постмодернистов. Если неомодернизм в лице того же Хабермаса стремится к завершению неоконченного проекта модернизма и настаивает на прежних принципах, то постмодернизм стремится к радикальному переосмыслению предшествующей традиции. С другой стороны, нельзя отрицать генетической преемственности постмодернизма по отношению к модернизму, о чём говорят многочисленные сходства. В частности, стремление к окраинности (или маргинальность), характерная для всего интеллектуального модернистского пространства, обнаруживает определённые сходства с постмодернистском критическим методом деконструции. Исходя из этого, можно сделать важный вывод о том, что специфика постмодернизма в неявной форме во многом присутствовала уже в культуре модерна. Таким образом, я считаю неоправданными заключения о том, что постмодернизм отрицает опыт, накопленный предыдущей философской традицией. Постмодернизм (что следует уже из самого термина) наследует большую часть модернистских идеологических установок (прежде всего, ориентацию на новое и принцип децентрации и экономии, большая часть которых заимствована именно у К. Маркса [Дж. Лечт полагает, что Ж. Деррида заимствует теорию всеобщей экономии у К. Маркса, см: Lechte J. Fifty Key Contemporary Thinkers. London, 1994]), хотя они и подвергаются деконструкции (поэтому и возникает приставка «пост-»), идеи эпохи модерна переосмысляются и интерпретируются вне авторского (исторического) начала, на чём настаивала классическая философия, тем не менее, не происходит отрицания накопленного предшествующей философской мыслью. Постмодернизм может быть понят как часть незавершённого модернистского проекта, о котором говорит Ю. Хабермас. Таким образом, историчность и преемственность между двумя традициями очевидна, хотя также очевидно и развитие определённых идеологических аспектов философии модерна, следовательно, можно говорить о переосмыслении, но не об отрицании постмодернизмом исторической традиции, как это часто делают непрофессиональные критики. Символично, что одной из эмблем постмодерна является корневище (или ризома, о которой пишут Делёз и Гваттари). Следует понимать, что постмодерн также является частью исторического развития европейской мысли, в этом смысле связь его с классической философией и философией модернизма, несомненно, присутствует, но на скрытом уровне, подобно тому, как корни дерева скрыты в земле. Взаимодействие идеологий модернизма и постмодернизма может быть описано как снятие (Aufheben) модернизма в постмодернизме, причём эта негация (снятие) носит не отрицающий характер, а, в гегелевской традиции, сохраняет и удерживает снятое (Die Negation des Bewusstseins, welches so aufhebt, dass es das Aufgehobene aufbewahrt und erhalt).
Даже несмотря на то, что формально полагается отсутствие рамок культуры постмодерна, следовательно, историческая и идеологическая незавершённость позволяет говорить нам о постмодерне как о культуре пост-современности, то есть не тождественной и не вписанной в рамки современной ментальности, тем не менее, уже существует определённая история философии постмодерна, которая, следовательно, принадлежит как часть истории европейской мысли. Полагание незавершённости как идеологического принципа, так или иначе, является продуктом конкретной эпохи, утверждение же идеологической пост-современности является скорее ещё одной постмодернистской метафорой. Именно в силу того, что мы находит преемственность между модернистской и постмодеринстской традициям, мы можем говорить о постмодернизме как о части европейской философии, вписанной в конкретность исторической эпохи. Таким образом, постмодернизм тоже оказывается современным (modern) культурным образованием, — обнаруживая, тем самым ещё одну грань идеологической близости двух традиций, — вписанным в реальность времени, хотя идеологическая открытость и незавершённость остаётся. Власть истории философии (которая не отрицается постмодернизмом) в данном случае оказывается более сильной, чем сама идеология постмодернизма. Таким образом, осуществляется идеологическая вписанность конкретного сознания (в данном случае постмодерного) в процесс исторического развития, о которой писал К. Маркс: «Сознание, следовательно, уже с самого начала есть общественный продукт и остаётся им, пока вообще существуют люди». [11, С. 27]. Сознание любой эпохи является контекстом (фоном) для формирования индивидуального сознания-текста, вместе с тем определяет его вписанность (принадлежность) в конкретность исторического развития. Таким образом, мы можем наблюдать взаимовлияние идеологии модерна (ориентированного на отрицание истории) и постмодерна (ориентированного на восполнение (supplement) истории), которые сосуществуют в современной философии. Также мы можем наблюдать заимствование методологии и одновременно историческую преемственность двух этих течений. «Как анти-гегельянцы — Фейербах, Маркс и Кьеркегор — дали нам понять иронию системы без конкретного мыслителя, так в свою очередь постмодернизм требует, чтобы мы обратили внимание на аналогичную иронию дискурса без ораторов, текстов без авторов и действия без деятелей». [61, p. 61]. Здесь К. Шрэг говорит именно о модернистской установке на модификацию рационального, когда рациональное перестаёт быть субъективной характеристикой (как для Декарта или Спинозы), и становится модификацией (вне-личностным принципом) разума в экономике, психоанализе, религии, воле и т.п. Такой же эффект мы можем наблюдать в философии постмодернизма, где понятие о личности растворяется в общей идеологии дискурсивного, текстуального, деятельного.
Модернизм, таким образом, был скорее концентрированным синтезом попыток преодоления европейской метафизики, основанной на традициях историзма в философии, переосмысления роли личности и поиском вне-личностных (классовых, бессознательных, духовных) оснований рационального. Тотальность модернистского мышления реализуется в том общем стремлении мыслителей-модернистов создать идеальную модель философии, следовательно, отказавшись от классических (аналитических) моделей. Поэтому модернизм неизбежно приходит к отрицанию исторических основ, что наиболее ярко видно на примере с философией З. Фрейда (психоанализ как отрицание гештальт-психологии), Ф. Ницше (этика нигилизма), К. Маркса (отрицание теоретичности философии): «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить». [9, Т. 42, С. 263]. В данном случае К. Маркс отрицает предшествующую теоретическую идеалистическую философию, предлагая новое прочтение философии, основанной на экономических принципах, как орудие изменения объективного мира. Эта позиция на отказ от исторического и традиционного в пользу современного рационального (в случае Маркса, экономического) метода, является типичным явлением эпохи модерна. Как пишет Ю. Хабермас, «модернизм — как самоотрицающее движение — есть тоска по истинной презентности, по истинному присутствию». [47, С. 42] Именно эта тоска по истинному присутствию и является, на мой взгляд, основанием для появления глобального модерного проекта по созданию нового (modern) мировоззрения.
В философии постмодерна можно отметить пересечение и взаимное влияние идей модернизма. Например, очевидный интерес современной философии искусства к пограничным областям модернистской рациональности: синтез лингвистики и психоанализа (у Ж. Лакан), психоанализа, семиотики и литературной критики (у Ю. Кристева), феноменологии и лингвистики (у Ж. Деррида). Таким образом, мы можем наблюдать экономическое влияние на всю современную философскую культуру. Идеи экономии К. Маркса, согласно Дж. Лечту, находят своё выражение в принципах современной художественной критики.
3. Религиозная ориентация в философии модернизма
Что же касается религиозных оснований модернизма, то следует сказать, что модернисты в большей своей массе отрицают конфессиональность, то есть, не принадлежит ни к какой из традиционных религий, за исключением, пожалуй, немногих русских мыслителей (таких как С.Л. Франк), которые стремились сохранить связи с православной церковью. Хотя Н. Зернов пишет о том, что православная церковь отрицала учение Вл. Соловьёва [64, p. 209]. В данном случае, мы видим кардинальное отличие классической философии, всегда вписанной в определённые церковные (или, как говорит Гегель, партийные) отношения, что можно наблюдать на примере откровенного католичества Гоббса, кальвинизме Локка, протестантизме Гегеля. Даже те классические философы, которые не занимались проблемами религии непосредственно, так или иначе принадлежали к определённым конфессиями и, так или иначе, выражали догматы различных религиозных учений. Даже те, кто формально не принадлежал к определённой церкви или выступал с еретических позиций, так или иначе обнаруживают свою принадлежность к той или иной церкви, течению, религиозной традиции: будь то Дж. Бруно (возродивший египетский культ солнца) или Б. Спиноза (провозглашая пантеизм, сохранивший близость иудаизму). Модернисты же, если использовать слова С. Франка, исходят их того, что старые боги постигнуты и развенчаны. Религиозность классической философии выражается наиболее полно в её партийности, если использовать термин Гегеля. То есть классика (даже классический европейский атеизм) тяготеет к партийности (или церковности), в то время как модернизм настаивает на индивидуализме, стремится к повествованию от первого лица. Поэтому именно модернисты породили огромное количество течений (ницшеанство, фрейдизм, прагматизм) и эпигонов.
В большей своей массе модернисты отрицают принадлежность к какой-либо церкви, ибо тотальное стремление к обновлению не может не затронуть и область веры. Именно поэтому мы знаем множество критических замечаний и откровенных обвинений в сектантстве, фашизме и антихристианстве в адрес некоторых философов-модернистов. Борьба с традицией ведётся и на религиозном фронте. Многие модернисты обращаются к проблеме религии, но склонны интерпретировать её в контексте своей идеологии. В частности, Фрейд понимает религию как универсальный невроз человечества, Маркс — как орудие буржуазии по подавлению воли рабочего класса. В данном случае, религия вписывается модернистами в их систему, и, тем самым, перестаёт быть чем-то автономным, а стало быть, враждебным. Однако модернисты критикуют в данном случае не саму религию, а лишь церковь как религиозный институт, а именно: традиции, догматы и церковные символы веры. При этом они не задаются вопросом разделения собственно религии и веры.
Нам же для дальнейшего повествования понадобится это разделение и более конкретное понимание феномена религии, на котором мы остановимся. Как и в случае с историей, которую пытаются отрицать и забыть, но, в конечном итоге приходят к неизбежности истории, так и в области религии, модернисты приходят по сути, к созданию собственных религий. Конечно, в данном случае возникает вопрос насколько уместно называть идеологию того или иного философа религией, тем более, что религиозные формы философии и теология как раз отходят на второй план в эпоху модернизма. Можно ли вообще говорить о религии и её силе после «смерти бога», провозглашённой Ницше, практики психоанализа, по сути, заменившей исповедь, после марксистского определения религии как «опиума для народа»? Для ответа на это вопрос определим прежде, что следует понимать под термином религия. В данном случае, можно принять в качестве рабочего определение Вл. Соловьёва, что религия — есть связь человека с безусловным началом. Расширяя его определение, следует сказать, что религия является последовательной верой в существование безусловного начала бытия (бога, законов природы, логоса и т.п.). В таком случае, религией может считаться не только социальный институт, устанавливающий систему верований, догматы и символы веры, то есть церковь. Иными словами, мы можем говорить о том, что существуют религии вне церкви, то есть не-институциональные религии, даже индивидуальные. Если принять тезис о том, что религия является связью человека с безусловным началом бытия, тогда мы не можем отрицать тот факт, что опыт такого связи и такого общения с безусловным началом бытия может быть индивидуальным. Итак, религии могут быть не только церковными, то есть когда связь человека и абсолюта носит коллективный характер (а церковь как раз и есть собрание верующих), но и индивидуальными, когда эта связь носит единичный характер.
В этом смысле религиозной философией я называю здесь не воспроизведение мыслителем того или иного контекста, связанного с понятиями «Бог», «душа», «дух». Но религиозной философией в рамках данного исследования называется философия, основанная на безусловной вере в невидимые основания (социального и психического) бытия. Таким образом, религиозной философией является всякое непротиворечивое философское повествование, основанное на метафизическом познании. За пределами метафизического исследования возможно и нерелигиозное повествование (в форме игры или эклектики, где рассевается внутренняя центральность и непротиворечивость). В этом смысле метафизика всегда имеет тесную связь с религией, ибо само применение умозрительного метода исследования должно иметь в качестве своего основания у-веренность философа в его истинности. Чтобы сделать то или иной заключение, которое не доказуемо (а именно таковым является всякое метафизическое познания), философ должен иметь более веские основания, нежели система логического доказательства. То есть, утверждая нечто, выходящее за пределы опыта, философ верит в то, что существует более достоверное знание, нежели научное. Подлинность таких заключений основывается лишь на вере философа в то, что он способен воспринимать и транслировать это достоверное знание. Ибо существование априорных форм чувственного познания основывается лишь на вере Канта в подлинность их существования, равно как и существование Эдипова комплекса доказано только лишь верой Фрейда в его существование и в его универсальное значение. Следовательно, основой всякой умозрительной системы является вера автора, а способность убедить читателя в истинности своих рассуждений принадлежит риторическому мастерству мыслителя. Итак, любое умозрение имеет религиозное происхождение, ибо всякий метафизик полагает, что имеет внутреннюю связь с неким абсолютом (будь то мир идей у Платона или Sensorium Dei у Ньютона), которые и даёт ему подлинное знание о мире. В этом смысле, модернисты не выходят за пределы метафизики, следовательно, мы имеем основания для того, чтобы говорить о специфике религиозных принципов в философии модернизма. Однако выяснение сущности религии не является предметом настоящего рассмотрения, поэтому необходимо вернуться к основному вопросу данного разбирательства.
Итак, есть все основания полагать, что идеология модернизма определённо претендует на роль религии. Во-первых, модернисты настаивают на существовании универсального начала бытия, всеобщего принципа (абсолюта), по отношению к которому выстраивается вся философская идеология (не всегда система) мыслителя. Таким образом, философия модернизма выстраивается по отношению к этому абсолюту как форма религии.
Во-вторых, модернизм предельно практичен, философы-модернисты не пишут более книг для констатации фактов или описания жизни, тем более они далеки от поклонения чистой науке. Как говорилось выше, все они преследует конкретные прикладные цели. Следовательно, модернисты ориентируются на широкий круг читателей (зрителей), в конечном счёте, на массовое сознание. В эпоху модернизма знание перестаёт быть уделом избранных, оно становится достоянием массы. Поэтому подзаголовок книги Ницше звучит как «книга для всех и ни для кого». Подобную же ориентацию на массовое мы можем найти и в области искусства. «Ориентация на массовое рождает два следствия. Первое — искание коллективного, доступного всем.… Второе следствие: ориентация в целом на массовый стиль вела и простыми и сложными путями к усилению гротескового начала». [21, C. 15].
В данном случае очевидна религиозная стратегия философов дать ответ всем людям, найти универсальный принцип, который работал бы в любой ситуации и мог бы не только объяснить причину, но и решить проблему человека. Также очевидна попытка модернизма ответить на те вопросы и решить те задачи, которые оказались невыполнимыми для классики. В связи с этим писатели-модернисты ориентируются на конкретные рецепты, которые можно было бы предложить массе: будь то рецепт Фрейда или рецепт Маркса или рецепт Соловьёва, — все они не только полагают, что знают, в чём проблемы человечества, но они берутся утверждать, что знают ещё и как их преодолеть. Очевидно, что полагая с одной стороны своё новаторство по отношению к прежней традиции, которой приписывается полная несостоятельность, а с другой стороны, пытаясь ответить на все вопросы и решить все проблемы, эти мыслители во многом принимают на себя роль пророков, которые выступают против фарисейства прежней философии и несут истинное (прагматическое) знание. Именно поэтому модернисты, как никакие мыслители других эпох, вызывали и вызывают радикально противоположные оцени современников и последователей: от презрения, по поклонения, — потому что так относятся только к пророкам. Если классическая философия показала своё бессилие в подобных рецептах или за отдалённости от реальных проблем человека, из-за своего заточения в башне из слоновой кости, то модернисты стремятся преодолеть это отчуждение между знанием и массой. Философия Нового времени вытеснял за рамки познания женщин, детей и сумасшедших, отказывая им в разумности, немецкая классическая философии не нашла ничего лучшего как утверждать просто неразвитость или искажённость сознания в детях и сумасшедших, но не рискнула утверждать, что кроме здорового и развитого сознания могут существовать другие формы сознания, которые также имеют право на существование. Модернизм не гнушается размышлять над проблемами окраинных форм сознания, полагая при этом, что именно решение прикладных задач является более важным, нежели теоретическое построения.
В-третьих, именно поэтому модернизм занят поиском оснований человеческой личности и именно поэтому в эпоху модернизма наибольшее развитие получают такие науки, как психология и социология. Так или иначе, все модернисты ориентированы на поиск глубинных (не видимых) оснований личности: будь то подсознание, которое определяет реальную жизнь я (у Фрейда), классовая принадлежность, которая определяет мышление и поведение человека (у Маркса), вера, от которой зависит не только счастье человека, но и ход истории вообще (у Франка), воля как основание всякой жизни и истории (у Ницше), чувство и интуиция как основание поведения (у Джеймса), духовное (у Соловьёва). Глубина вообще становится одной из ключевых фигур в идеологии модернизма, и в то же время она наделяется религиозным значением. В.С. Соловьёв, так же как и многие другие модернисты полагает доминирование глубины над поверхностью и неоднократно повторяет, что внешний образ является лишь оболочной, в то время как средоточием истинны является внутренне содержание.
В-четвёртых, религиозным основанием модернизма может считаться тотальность философского письма. Вводя этот термин, я понимаю под тотальностью, абсолютное начало авторской идеологии, в контексте которого выстраивается вся модель мышления данного философа. С одной стороны, это универсальное начало идеологии реализуется не только во всех текстах мыслителя, но определяет сам подход к анализу, его методологию, ход авторской мысли, её развитие, равно как и стиль письма, логику автора-писателя. Если трактовать письмо как глубинный принцип организации человеческой деятельности, правомерно сказать, что тотальность, в моём понимании, есть авторское начало письма, то, посредством чего, реализуется авторское письмо, то есть голос автора. Тотальность, понятая как голос автора, может выступать и как организующий принцип мышления, как субъект власти. Мы можем говорить о том, что тотальность, как идеологический принцип (в соответствии с которым автор определяет свой подход к анализу мира (текста)), определяется самой культурой, которая «говорит через автора», потому что эта тотальность мышления проявляется в самых элементарных движениях мысли (порой неосознанно). Культура содержит в скрытом виде все возможности и потенции, реализуемые в авторском творчестве, подобно тому, как в системе З. Фрейда, Оно в скрытом виде содержит мотивы и потенции физической и рациональной деятельности человека.
С другой стороны, эта тотальность, сама становится началом новой идеологии, новым явлением культуры, основополагающим новое направление в культуре. Тотальность всегда ориентируется на массовое сознание, стремится сделать свои ценности всеобщими, а не только ценностями интеллектуального (высокого) меньшинства. Ценности в свою очередь стремятся к универсальному характеру, стремятся стать всеобщими (массовыми) ценностями. Таким образом, в стремлении к универсализации, реализуется экспансивная власть тотальности. В этом смысле тотальность является субъектом идеологии, и субъектом власти. Тотальность в таком случае есть определённого рода дискурс власти определённых ценностей, а равно и принцип производства новых ценностей и способов их распространения. Собственно эта способность распространять свои ценности на всю область культуры и увеличивать их силу, и есть власть (власть как экспансия ценностей), поэтому мы можем говорить о том, что тотальность есть своего рода субъект власти. Таким образом, можно отметить экспансивную характеристику тотальности: с одной стороны она реализуется как ницшеанская воля к власти, то есть стремление к распространению своих ценностей, с другой стороны, стремится к изоляции от критики со стороны других ценностей, создавая как внешнюю, так и внутреннюю идеологическую непроницаемость (идеологическую изоляцию), о чём уже шла речь. Идеология модернизма стремится охватить и описать все сферы человеческой активности так, чтобы сделать их частью собственной идеологии, таким образом, обезопасить себя в случае возможной критики. Поэтому ницшеанство не боится критики со стороны церкви, упрекающей его в цинизме, фрейдизм не боится критики со стороны гуманизма, упрекающего его в низменности, система Франка не боится критики со стороны либерализма, упрекающего её в патриархальности.
Наличие тотальности роднит модерн и классику, ибо тотальность всегда имеет религиозный характер, так как тотальность всегда необходимо сопровождается верой. Модерн оказывается тесно связанным с классической философией, органическим её продолжением, что и даёт основания Д.В. Сарабьянову говорить о том, что «модерн несёт груз прошедшего времени — особенно всего XIX века». [21, С. 17]. Тотальность письма имеет религиозный характер ибо всегда реализуется как форма проповеди, то есть как экспансивное распространение знания от «знающего» — «незнающим». В модернизме же адресатом текста становится массовый человек, поэтому сила экспансии (властность, авторитетность) модернистской идеологии заметно выше, чем власть классики. В последующих главах мы более подробно рассмотрим примеры тотальности массового (у Маркса), тотальности сексуального (у Фрейда) и тотальности религиозного (у Франка).
- Автономова Н. Рассудок. Разум. Рациональность. М., 1988
- Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург, 2000
- Зеньковский В.В. История русской философии. Париж, 1952
- Зигмунд Фрейд — Карл Густав Юнг. Из переписки // Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992. С.364—466
- Ковальчук С. Взыскуя истину. Рига, 1998
- Кропотов С.Л. Экономика текста в неклассической философии искусства Ницше, Батая, Фуко, Деррида. Екатенибург, 1999
- Любутин К.Н. Российские версии философии марксизма: Уральская философская школа // Известия Уральского университета, № 19, 2001. С.32—36
- Маркс К. Капитал. М., 1978
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1974
- Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М., 1966
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М., 1988
- Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956
- Ницше Ф.О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения в 2 т., Т. 1. М., 1997 С.158—230
- Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству // Ницше Ф. Сочинения в 2 т., Т. 2. М., 1997. С.631—692
- Ницше Ф. Esse Homo. Как становятся самим собою // Ницше Ф. Сочинения в 2 т., Т. 2. М., 1997. С.693—769
- Носов С.Н. Антирационализм в русской литературе второй половины XIX—нач. XX века (Ап. Григорьев, К. Леонтьев, Вл. Соловьёв, В. Розанов). Диссертация в форме научного доклада. СПб., 1998
- Основы марксистско-ленинской философии. М., 1973
- Основы марксистско-ленинской эстетики. М., 1961
- Розанов В.В. Уединённое. М., 1992
- Сабиров В.Ш. Русская идея спасения. Жизнь и смерть в русской философии. СПб., 1995
- Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. М., 1989
- Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. Проблема жизнетворчества. Воронеж, 1991
- Свасьян К.А. Фридрих Ницше: Мученик сознания // Ницше Ф. Сочинения в 2 т., Т. 1. М., 1997. С.5—46
- Семёнова С.Г. Тайны царствия небесного. М., 1994
- Соловьёв В.С. Письма. СПб., 1911
- Соловьёв В.С. Русская идея // Смысл любви: Избранные произведения. М., 1991
- Соловьёв В.С. Собр. Соч. в 10 т., СПБ., 1911—1913
- Соловьёв В.С. Три силы // Смысл любви: Избранные произведения. М., 1991
- Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. М., 1997
- Фёдорова М.М. Модернизм и антимодернизм во французской политической мысли XIX века. М., 1997
- Франк С.Л. Абсолютное // Франк С.Л. Русские мировоззрение. СПб., 1996. С.58—71
- Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С.13—146
- Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии // Сочинения. М., 1992
- Франк С.Л. О невозможности философии (Письмо к другу) // Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С.88—94
- Франк С.Л. Психоанализ как миросозерцание // Путь, 1930. № 25
- Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. СПб., 1997
- Франк С.Л. С нами Бог. Три размышления // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С.217—404
- Франк С.Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С.405—470
- Франк С.Л. Смысл жизни // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С.147—216
- Франк С.Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии // Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С.149—160
- Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989
- Фрейд З. К истории психоаналитического движения // Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992. С.149—200
- Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992. С.201—255
- Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992
- Фрейд З. Сновидения. М., 1991
- Фрейд З. Я и Оно. Сознание и бессознательное // Хрестоматия по истории психологии. М., 1980. С.184—188
- Хабермас Ю. Модерн — незавершённый проект // Вопросы философии. № 4, 1992
- Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя Розы. СПб., 1999
- Argyle M. Psychology and Religion: An Introduction. Routledge, 2000
- Bermann M. All that is solid mets into air. N.Y., 1982
- Bird R. A Bibliography of Russian Idealist Philosophy in English. Variable Reading in Russian Philosophy, no. 7. The Valiable Press, Carlisle, Penn., 1999. pp. 29—31
- Boobbyer Ph. S.L. Frank. The life and works of a Russian philosopher (1877—1950). Athenes: Ohio University Press, 1995
- Boobbyer Ph. The Two Democracies: Semen Frank’s interpretation on the Russian revolutions of 1917 // Revolutionary Russia. Vol. 6, No. 2., December 1993. pp. 193—209
- Boobbyer Ph. Russian Liberal Conservatism // Russian nationalism. Past and present. London: MacMillan Press Ltd., New York: St. Martin’s Press, Inc., 1998. pp. 35—54
- Books Receiver Spring 2000 // The Philosopher. Vol. LXXXVIII, No. 1, 2000. p.52
- Frank V., comp. Bibliographie des oeuvres de Simon Frank. Ed. by T. Ossorgine. Introduction by Rene le Senne. Paris: Institut d’Etudes slaves, 1980
- James W. The Varieties of Religious Experience. London and Glasgow: Collins Clear-Type Press., 1960
- Li K.-M. Western Civilization and its Problems. A dialogue between Weber, Elias and Habermas. Ashgate, 1999
- Olshansky Dmitry А. Science, Religion and Philosophy // Pathways News. Issue No. 23, 13-th January 2002: ;
- Olshansky Dmitry A. Methodology of Scientific and Religious Cognition // Pathways News. Issue No. 19, 11-th November 2001: <http://www.shef.ac.uk/uni/projects/ptpdlp/newsletter/issue19.html#top>, <http://www.philosophos.com/philosophy_article_8.html>
- Schrag C.O. The Self after Postmodernity. Yale University Press, 1997
- Stafford-Clark D. What Freud really said? New York: Schocken Books, 1966
- The Philosopher’s Millennium Book Reviews // The Philosopher. Vol. LXXXVIII, No. 1, 2000. pp.10—17
- Zernov N. The Russian religious renaissance of the twentieth century. New York and Evantson. 1963
Отличий современности и модернизма
Современность просто относится к современному периоду времени (с 1500 г. по настоящее время), который является пост-аграрным и характеризуется капитализмом, рационализмом и национальным государством. Современность — это современная эпоха человечества в той степени, в которой такое быстро развивающееся понятие можно разделить на категории. Модернизм, более детализированное социальное и культурное движение, охватывающее приблизительно 1890-1939 годы, действует в рамках современности, но представляет собой отдельную сущность. В общем, между ними есть несколько важных различий, которые вы должны понимать, чтобы провести разделение между тесно связанными концепциями.
1 Контекст
Современность существует в постиндустриальном контексте. Это все, что обычно можно рассматривать как современное, и поэтому существует как исторический период, о котором говорили все, кто до него. Это эпоха социальных отношений, чаще всего ассоциируемых с капитализмом и новым глобальным осознанием. В этом новом порядке современность отличается от модернизма. Модернизм как художественное и культурное движение действовал в контексте отказа от этого реализма и отказа от развития конкретных ценностей.
2 История
Современность зародилась в обществе, основанном на сельском хозяйстве, в котором представительная демократия была далека от нормы. Бурные социально-политические события нескольких предшествующих веков стали родовыми муками этой новой эры — эпохи, расходящейся с тем, что было до нее. Развитие модернизма было более тонким. Исторически это проявилось в искусстве и культурном самовыражении. Он отверг консервативные ценности прошлого через философа Теодора Адорно и принял концепцию самосознания.
3 Влияние
Современность — это новейшая глава истории, и все же на нее повлияло прошлое, так что она оттолкнула себя от прошлого образа жизни. Следовательно, вы можете рассматривать политические и экономические изменения в национальном управлении, развитие Северной Америки и сокрушительные в экономическом отношении войны, такие как наполеоновские войны, как факторы, которые испортили современное мнение о нормах старения прошлого. На модернизм больше влияют культура и социальные изменения, в том числе отказ от мышления Просвещения и ослабление влияния церкви.
4 Направление
Современность как исторический период вряд ли получит дальнейшее развитие. Постмодернизм — это термин, который использовался академиками еще со времен Ницше для описания современного общества, которое является в некотором роде отдельной сущностью, чем индустриальная революция. Точно так же не ожидается, что модернизм сохранит доминирующее положение среди художников, но он, вероятно, будет жить какое-то время, поскольку постмодернисты расшифровывают это движение, интерпретируя способы, которыми его будут помнить, и способы, которыми он продолжает влиять на развивающееся искусство. формы.
МоМА | Что такое современное искусство?
Рождение модернизма и современного искусства восходит к промышленной революции. Этот период быстрых изменений в производстве, транспорте и технологиях начался примерно в середине 18 века и продолжался на протяжении всего 19 века, оказывая глубокое влияние на социальные, экономические и культурные условия жизни в Западной Европе, Северной Америке и, в конечном итоге, во всем мире. Новые виды транспорта, включая железную дорогу, паровой двигатель и метро, изменили образ жизни, работы и передвижения людей, расширив их мировоззрение и доступ к новым идеям.По мере того, как городские центры процветали, рабочие стекались в города в поисках промышленных рабочих мест, а городское население быстро росло.
До XIX века художников чаще всего заказывали для создания произведений искусства богатые покровители или учреждения, такие как церковь. Большая часть этого искусства изображала религиозные или мифологические сцены, рассказывающие истории, предназначенные для наставления зрителя. В 19 веке многие художники начали создавать искусство, основываясь на собственном личном опыте и на выбранных ими темах. С публикацией работы психолога Зигмунда Фрейда Толкование снов (1899) и популяризацией идеи подсознания многие художники начали исследовать сны, символизм и личную иконографию как способы изображения своих субъективных переживаний.Подвергая сомнению представление о том, что искусство должно реалистично изображать мир, некоторые художники экспериментировали с выразительным использованием цвета, нетрадиционных материалов и новых техник и сред. Среди этих новых средств была фотография, изобретение которой в 1839 году открыло радикальные возможности для изображения и интерпретации мира.
MoMA собирает работы, созданные после 1880 года, когда атмосфера была созрела для художников-авангардистов, чтобы они могли использовать свои работы в новых, удивительных и современных направлениях.
Обычаи, искусство, социальные институты и достижения определенной нации, народа или другой социальной группы.
Сеттинг или часть рассказа или повествования.
Метод, с помощью которого художник, писатель, исполнитель, спортсмен или другой продюсер использует технические навыки или материалы для достижения готового продукта или проекта.
Форма, знак или эмблема, которые представляют что-то еще, часто что-то несущественное, например идею или эмоцию.
В популярных работах по психологии — разделение разума, содержащее сумму всех мыслей, воспоминаний, импульсов, желаний, чувств и т. Д., которые не зависят от восприятия или контроля человека, но часто влияют на сознательные мысли и поведение (существительное). Сюрреалисты черпали вдохновение из теорий психоаналитика Зигмунда Фрейда о сновидениях и работе подсознания.
«Модерн» может означать «относящийся к настоящему времени», но он также может указывать на связь с определенным набором идей, которые на момент их развития были новыми или даже экспериментальными.
Материалы, используемые для создания произведения искусства, и категоризация искусства на основе используемых материалов (например, живопись [или, точнее, акварель], рисунок, скульптура).
Элемент или вещество, из которого что-то может быть сделано или составлено.
Предмет изобразительного искусства, часто придерживающийся определенных условностей художественного изображения и наполненный символическими значениями.
Запрос или запрос на изготовление произведения искусства.
Воспринимаемый оттенок объекта, обусловленный тем, как он отражает или излучает свет в глаз.Также вещество, например краситель, пигмент или краска, придающее оттенок.
Французский означает «авангард», этот термин используется в английском языке для описания группы, которая является новаторской, экспериментальной и изобретательной в своей технике или идеологии, особенно в сферах культуры, политики и искусства.
Родственные художники: Эжен Атже, Ипполит Бланкар, Поль Сезанн, Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Гектор Гимар, Василий Кандинский, Рауль Франсуа Ларш, Жак-Анри Лартиг, Фернан Леже, Анри Матисс, Жоан Миро, Жоан Миро, Паула Модерзон-Беккер, Эдвард Мунк, Пабло Пикассо, Анри Руссо, Жорж-Пьер Сёра, Уильям Дж.Шу, Пол Стрэнд, Чарльз Шилер, Анри де Тулуз-Лотрек, Эдуард Вюйар
Расцвет модернизма | Безграничная история искусства
Расцвет модернизма
Модернизм был философским движением конца 19 — начала 20 веков, основанным на глубокой вере в прогресс общества.
Цели обучения
Обобщение идей, составляющих модернизм
Основные выводы
Ключевые моменты
- Среди факторов, сформировавших модернизм, были развитие современных индустриальных обществ и быстрый рост городов, за которым последовал ужас Первой мировой войны.
- Модернизм, по сути, был основан на утопическом видении человеческой жизни и общества и на вере в прогресс или движение вперед.
- Модернистские идеалы пронизывали искусство, архитектуру, литературу, религиозную веру, философию, общественную организацию, повседневную деятельность и даже науки.
- В живописи модернизм определяется сюрреализмом, поздним кубизмом, Баухаусом, Де Стиджлом, Дада, немецким экспрессионизмом и Матиссом, а также абстракциями таких художников, как Пит Мондриан и Василий Кандинский, которые характеризовали европейскую художественную сцену.
- Конец модернизма и начало постмодернизма — это горячо обсуждаемый вопрос, хотя многие считают, что он закончился примерно в 1940 году.
Модернизм — это философское движение, которое, наряду с культурными тенденциями и изменениями, возникло в результате огромных преобразований в западном обществе в конце 19-го и начале 20-го веков. Среди факторов, сформировавших модернизм, были развитие современных индустриальных обществ и быстрый рост городов, за которым последовал ужас Первой мировой войны.
Модернизм был по существу основан на утопическом видении человеческой жизни и общества и на вере в прогресс или движение вперед. Он предполагал, что определенные абсолютные универсальные принципы или истины, такие как сформулированные религией или наукой, могут быть использованы для понимания или объяснения реальности.
Модернистские идеалы были далеко идущими, пронизывающими искусство, архитектуру, литературу, религиозную веру, философию, социальную организацию, повседневную деятельность и даже науки. Приказ поэта Эзры Паунда 1934 года «Сделайте это новым!» был пробным камнем подхода движения к тому, что оно считало устаревшей культурой прошлого.В этом духе его нововведения, такие как роман о потоке сознания, атональная (или пантональная) и двенадцатитоновая музыка, разделенная живопись и абстрактное искусство, имели предшественников в 19 веке.
В живописи 1920-х и 1930-х годов и Великой депрессии модернизм определяется сюрреализмом, поздним кубизмом, Баухаусом, Де Стиджлом, Дада, немецким экспрессионизмом, а также модернистами и искусными художниками цвета, такими как Анри Матисс, а также абстракциями художников. как Пит Мондриан и Василий Кандинский, которые характеризовали европейскую арт-сцену.В Германии Макс Бекманн, Отто Дикс, Джордж Гросс и другие политизировали свои картины, предвещая приближение Второй мировой войны, в то время как в Америке модернизм виден в форме американской живописи, а также в движениях соцреализма и регионализма, которые включали в себя и то, и другое. политические и социальные комментарии доминировали в мире искусства.
Модернизм определяется в Латинской Америке художниками Хоакином Торресом Гарсия из Уругвая и Руфино Тамайо из Мексики, в то время как движение художников-монументалистов с Диего Риверой, Дэвидом Сикейросом, Хосе Клементе Ороско, Педро Нель Гомес и Сантьяго Мартинес Дельгадо, а также картины символиста Фриды , положил начало возрождению искусства в регионе, характеризующемуся более свободным использованием цвета и акцентом на политические сообщения.Конец модернизма и начало постмодернизма — это горячо обсуждаемый вопрос, хотя многие считают, что он закончился примерно в 1940 году.
Les Desmoiselles D’Avignon Пикассо, 1907 : Пикассо — вездесущий образец модернистского художника.
Постимпрессионизм
Пост-импрессионизм относится к жанру, который отверг натурализм импрессионизма в пользу использования цвета и формы в более выразительных манерах.
Цели обучения
Сравните и противопоставьте техники постимпрессионизма и импрессионизма
Основные выводы
Ключевые моменты
- Постимпрессионисты расширили использование ярких цветов, густого нанесения краски, характерных мазков кисти и реальных предметов, и были более склонны подчеркивать геометрические формы, искажать формы для выразительного эффекта и использовать неестественные или произвольные цвета. в своих композициях.
- Хотя они часто выставлялись вместе, художники-постимпрессионисты не пришли к согласию относительно единого движения, и молодые художники в начале 20-го века работали в географически разрозненных регионах и в различных стилистических категориях, таких как фовизм и кубизм.
- Термин «постимпрессионизм» был введен британским художником и искусствоведом Роджером Фраем в 1910 году для описания развития французского искусства со времен Мане.
Ключевые термины
- Постимпрессионизм : (Искусство) жанр живописи, который отверг натурализм импрессионизма, используя цвет и форму в более выразительных манерах.
- Постимпрессионизм : французское искусство или художники, принадлежащие к жанру после Мане, которые расширили стиль импрессионизма, отвергнув его ограничения; они продолжали использовать яркие цвета, густое нанесение краски, характерные мазки кисти и реальные предметы, но они были более склонны подчеркивать геометрические формы, искажать форму для выразительного эффекта и использовать неестественные или произвольные цвета.
- столб и перемычка : простой метод строительства с использованием заголовка или архитрава в качестве горизонтального элемента над пустотой здания (перемычкой), поддерживаемой на концах двумя вертикальными колоннами или столбами (столбами).
Переход от натурализма
Пост-импрессионизм относится к жанру живописи, который отвергал натурализм импрессионизма в пользу использования цвета и формы в более выразительных манерах. Термин «постимпрессионизм» был придуман британским художником и искусствоведом Роджером Фраем в 1910 году для описания развития французского искусства со времен Мане. Постимпрессионисты расширили импрессионизм, отвергнув его ограничения. Например, они продолжали использовать яркие цвета, густое нанесение краски, характерные мазки кисти и реальные предметы, но они также были более склонны подчеркивать геометрические формы, искажать формы для выразительного эффекта и использовать неестественные или произвольные цвета в их композиции.
Выдающиеся художники постимпрессионизма
Постимпрессионизм развился из импрессионизма. Начиная с 1880-х годов, несколько художников, в том числе Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Жорж Сёра и Анри де Тулуз-Лотрек, представляли различные принципы использования цвета, узора, формы и линии, выводя эти новые направления из примера импрессионистов. . Эти художники были немного моложе импрессионистов, и их работы одновременно стали известны как постимпрессионизм.Некоторые из первых художников-импрессионистов также отважились на эту новую территорию. Камиль Писсарро недолго писал в пуантилистской манере, и даже Моне отказался от строгой картины en пленэр . Поль Сезанн, участвовавший в первой и третьей выставках импрессионистов, разработал в высшей степени индивидуальное видение, подчеркнув изобразительную структуру; его чаще всего называют постимпрессионистом. Хотя эти случаи иллюстрируют сложность присвоения ярлыков, работы первых художников-импрессионистов по определению можно отнести к категории импрессионизма.
Пшеничное поле с воронами Ван Гога, 1890 : Винсент Ван Гог использовал вращающиеся мазки кисти во многих своих постимпрессионистских работах.
Разнообразный поиск направлений
Постимпрессионисты были недовольны тривиальностью сюжета и потерей структуры в картинах импрессионистов, хотя и не пришли к единому мнению о дальнейших действиях. Жорж Сёра и его последователи, например, интересовались пуантилизмом, систематическим использованием крошечных цветных точек.Поль Сезанн намеревался восстановить чувство порядка и структуры в живописи, уменьшая объекты до их основных форм, сохраняя при этом яркие свежие цвета импрессионизма. Винсент Ван Гог использовал яркие цвета и кружащиеся мазки кисти, чтобы передать свои чувства и душевное состояние. Следовательно, хотя они часто выставлялись вместе, художники-постимпрессионисты не пришли к согласию относительно единого движения, а молодые художники в начале 20-го века работали в географически разрозненных регионах и в различных стилистических категориях, таких как фовизм и кубизм.
Воскресный полдень на острове Гранд Жат Жорж-Пьер Сёра, 1884–86 : Работы Жоржа Сёра — пуантилисты, с использованием систематических цветных точек для создания формы и структуры.
Сезанн
Сезанн был французским художником-постимпрессионистом, чьи работы освещают переход от 19 века к началу 20 века.
Цели обучения
Обсудить эволюцию и влияние стиля живописи Сезанна в период постимпрессионизма.
Основные выводы
Ключевые моменты
- Ранние работы Сезанна часто связаны с фигурами в пейзаже, часто изображая группы больших, тяжелых фигур.В зрелом творчестве Сезанна есть твердый, почти архитектурный стиль живописи. С этой целью он структурно упорядочил свое восприятие в простых формах и цветовых плоскостях.
- Это исследование визуализировало несколько разные, но одновременные визуальные восприятия одних и тех же явлений, чтобы дать зрителю другой эстетический опыт.
- «Темный период» Сезанна с 1861 по 1870 год содержит работы, для которых характерны темные цвета и интенсивное использование черного.
- Легкость его работ импрессионистов резко контрастирует с драматической смирением, обнаруженной в его последнем периоде продуктивности с 1898 по 1905 год.Эта отставка свидетельствует о нескольких натюрмортах, на которых изображены черепа в качестве сюжета.
Ключевые термины
- Сезанн : Поль Сезанн (1839–1906) был французским художником и художником-постимпрессионистом, чьи работы заложили основы перехода от концепции художественного творчества 19-го века к новому и радикально отличному миру искусства 20-го века. век.
- Импрессионизм : художественное движение XIX века, зародившееся группой парижских художников.Характеристики живописи импрессионистов включают относительно небольшие, тонкие, но видимые мазки кисти, открытую композицию, акцент на точном изображении света в его изменяющихся качествах (часто с акцентом на эффекты течения времени), общий, обычный предмет, включение движения как объекта важнейший элемент человеческого восприятия и опыта, а также необычные углы обзора.
- Постимпрессионизм : (Искусство) жанр живописи, который отверг натурализм импрессионизма, используя цвет и форму в более выразительных манерах.
Введение
Поль Сезанн (1839–1906) был французским художником и живописцем постимпрессионизма, чьи работы положили начало переходу от концепции художественного творчества XIX века к новому и радикально отличному миру искусства. Часто повторяющиеся мазки Сезанна очень характерны и легко узнаваемы. Он использовал цветные плоскости и мелкие мазки, чтобы сформировать сложные поля и передать интенсивное изучение своих предметов.
Ранняя работа
Ранние работы Сезанна часто связаны с фигурами в пейзаже, часто изображая группы больших, тяжелых фигур.Позже он стал больше интересоваться работой с позиций прямого наблюдения, постепенно развивая легкий, воздушный стиль живописи. Тем не менее в зрелом творчестве Сезанна есть развитие твердого, почти архитектурного стиля живописи. С этой целью он структурно упорядочил все, что он воспринимал, в простые формы и цветные плоскости.
Сезанн интересовался упрощением естественных форм до их геометрической сущности, желая «рассматривать природу посредством цилиндра, сферы, конуса.Например, ствол дерева можно представить как цилиндр, а яблоко или апельсин — как сферу. Кроме того, его желание запечатлеть правду восприятия привело его к изучению бинокулярного графического зрения. Это исследование визуализировало несколько разные, но одновременные визуальные восприятия одних и тех же явлений, предоставляя зрителю другое эстетическое ощущение глубины.
Темный период
«Темный период» Сезанна 1861–1870 гг. Состоял из работ, для которых характерны темные цвета и интенсивное использование черного.Они резко отличаются от его ранних акварелей и эскизов в École Spéciale de dessin в Экс-ан-Провансе в 1859 году. В 1866–1867 годах, вдохновленный примером Курбе, Сезанн написал серию картин мастихином. Позже он назвал эти работы, в основном портреты, une couillarde (грубое слово, обозначающее показную мужественность). Всего в произведениях Темного периода есть несколько эротических или насильственных сюжетов.
Черные мраморные часы, 1869–1871 : Черные мраморные часы с интенсивным использованием черного и темного цветов служат примером того, как Сезанн работал в «темный период» в начале своей карьеры.
После начала франко-прусской войны в июле 1870 года полотна Сезанна стали намного ярче и больше отражали импрессионизм. Сезанн перемещался между Парижем и Провансом, участвуя в первой (1874 г.) и третьей выставках импрессионистов (1877 г.). В 1875 году он привлек внимание коллекционера Виктора Шоке, чьи заказы принесли некоторое финансовое облегчение. Однако в целом выставленные картины Сезанна вызывали веселье, возмущение и сарказм.
Жас де Буффан , 1876 г.: Под влиянием Писсарро работы Сезанна стали намного ярче и импрессионистами.
Легкость его работ импрессионистов резко контрастирует с его драматической отставкой в последний период его продуктивности с 1898 по 1905 год. Эта отставка свидетельствует о нескольких натюрмортах, на которых изображены черепа в качестве сюжета.
Пирамида Черепов , ок. 1901 : Драматическое смирение со смертью характерно для нескольких натюрмортов Сезанна, созданных между 1898 и 1905 годами.
Исследования Сезанна в области геометрического упрощения и оптических явлений вдохновили Пикассо, Брака, Гриса и других на эксперименты со все более сложными множественными взглядами на один и тот же предмет. Таким образом, Сезанн положил начало одной из самых революционных областей художественного поиска 20-го века, которая должна была повлиять на развитие современного искусства. В память о нем учреждена премия за особые достижения в искусстве. «Медаль Сезанна» вручается французским городом Экс-ан-Прованс.
Завихрение
Вортицизм, ответвление кубизма, был кратковременным модернистским движением в британском искусстве и поэзии начала 20 века.
Цели обучения
Опишите недолговечное движение вортицизма в Великобритании
Основные выводы
Ключевые моменты
- Движение вортицизма отвергло популярные в то время типичные пейзажи и обнаженную натуру в пользу геометрического стиля, имеющего тенденцию к абстракции.
- Движение было объявлено в 1914 году в первом выпуске официального литературного журнала Vorticism BLAST, который провозгласил манифест движения.
- Вортизм расходился с кубизмом и футуризмом.Он пытался запечатлеть движение на изображении. В картинах вортицистов современная жизнь представлена множеством смелых линий и резких цветов, привлекающих взгляд зрителя к центру холста.
Ключевые термины
- Промышленная революция : Крупные технологические, социально-экономические и культурные изменения в конце 18-го и начале 19-го веков, когда экономика перешла от экономики, основанной на ручном труде, к экономике, в которой доминирует машинное производство.
- Vorticism : ответвление кубизма; недолговечное модернистское движение в британском искусстве и поэзии начала 20-го века, базирующееся в Лондоне, но международное по макияжу и амбициям.
Вортицизм был кратковременным модернистским движением в британском искусстве и поэзии в начале 20 века. Он базировался в Лондоне, но был интернациональным по внешнему виду и амбициям. Как движение, вортицизм отказался от типичных пейзажей и обнаженной натуры того времени в пользу геометрического стиля, имеющего тенденцию к абстракции.
Группа вортицизма началась с Центра искусства повстанцев, основанного Виндхэмом Льюисом как разрыв с другими традиционными школами, и имела свои интеллектуальные и художественные корни в группе Блумсбери, кубизме и футуризме.Льюис видел вортицизм как независимую альтернативу кубизму, футуризму и экспрессионизму. Хотя этот стиль вырос из кубизма, он более тесно связан с футуризмом в его объятиях динамизма, машинного века и всего современного. Однако вортицизм расходился как с кубизмом, так и с футуризмом в том, как он пытался уловить движение в изображении. В картинах вортицистов современная жизнь представлена множеством смелых линий и резких цветов, привлекающих взгляд зрителя к центру холста.
Озеро : Лоуренс Аткинсон, один из подписантов BLAST, написал «Озеро» (перо и акварель на бумаге) около 1915–2020 годов, вдохновленный вортицизмом.
The Vorticists опубликовали два выпуска литературного журнала BLAST под редакцией Льюиса в июне 1914 и июле 1915 года. В нем содержались работы Эзры Паунда, Т. С. Элиота и самих вортицистов. Его типографская авантюрность была названа Эль Лисицким одним из главных предвестников революции в графическом дизайне 1920-х и 1930-х годов.
BLAST Обложка : Обложка BLAST 1915 года демонстрирует использование движения вортицистов геометрического стиля и острых углов в печати и дизайне.
Картины и скульптуры, показанные в Rebel Art Center в 1914 году, до образования Vorticist Group, считались «экспериментальной работой» Льюиса, Уодсворта, Шекспира и других, которые использовали угловое упрощение и абстракцию в своих картинах. Эта работа была современна и сопоставима с абстракцией художников континентальной Европы, таких как Кандинский, Франтишек Купка и Русская группа Райистов. В 1915 году вортицисты провели только одну официальную выставку в лондонской галерее Доре.После этого движение распалось, во многом из-за начала Первой мировой войны и апатии общественности к их работе.
Символизм
Символизм был художественным движением конца 19 века французского, русского и бельгийского происхождения.
Цели обучения
Обсудить использование символизма в произведениях искусства как поиск абсолютных истин
Основные выводы
Ключевые моменты
- Символизм был в значительной степени реакцией на натурализм и реализм, антиидеалистические стили, которые были попытками представить реальность в ее суровой особенности и возвысить скромное и обычное над идеальным.С другой стороны, символизм благоприятствовал духовности, воображению и мечтам.
- Символисты считали, что искусство должно представлять абсолютные истины, которые можно описать только косвенно. Таким образом, они писали и рисовали в очень метафорической и наводящей на размышления манере, наделяя определенные изображения или объекты символическим значением.
- Художники-символисты подчеркивали силу личной субъективности, эмоций и чувств, а не полагались на реализм, чтобы предложить более широкие истины.
- Символизм выражал сцены из природы, человеческой деятельности и всех других явлений реального мира, которые изображены не сами по себе, а как воспринимаемые поверхности, созданные для представления их эзотерической близости с изначальными идеалами.
Ключевые термины
- символизм : Символизм был художественным движением конца 19 века французского, русского и бельгийского происхождения в поэзии и других искусствах. Символизм — это практика представления вещей символами или наделения вещей символическим значением или характером. Символ — это объект, действие или идея, которые представляют собой нечто иное, чем он сам, часто более абстрактного характера. Символизм создает качественные аспекты, которые делают литературу, такую как поэзия и романы, более значимой.
Движение к Смыслу
Символизм — это художественное направление конца 19 века французского, русского и бельгийского происхождения, проявившееся в поэзии и других видах искусства. Термин «символизм» происходит от слова «символ», которое происходит от латинского «symbolum» — символа веры, и «symbolus» — знака признания. Символизм был в значительной степени реакцией на натурализм и реализм, антиидеалистические стили, которые были попытками представить реальность в ее суровой особенности и возвысить скромное и обычное над идеальным.Символизм, с другой стороны, одобрял духовность, воображение, мечты, эмоции и личную субъективность художника как инструмент для иллюстрации больших истин. Тематически художники-символисты, как правило, сосредотачивались на темах, связанных с оккультизмом, декадансом, меланхолией и смертью.
Самоубийство Дороти Хейл Фриды Кало, 1939 : Хотя эта картина была заказной, она все еще демонстрирует фирменное использование символизма Кало для выражения ее субъективной правды.
В поисках скрытой правды
Символисты считали, что искусство должно отражать абсолютные истины, которые можно описать только косвенно. Таким образом, они писали и рисовали в очень метафорической и наводящей на размышления манере, наделяя определенные изображения или объекты символическим значением. Жан Мореас опубликовал «Манифест символизма » (« Le Symbolisme ») в «Фигаро» 18 сентября 1886 года (см. Стихи 1886 года). Мореас объявил, что символизм враждебен «простым значениям, декламациям, ложной сентиментальности и прозаическим описаниям» и что его цель состоит в том, чтобы «облечь идеал в ощутимую форму», чья «цель не была в себе, но чья единственной целью было выразить Идеал.Другими словами, символизм выражал сцены из природы, человеческой деятельности и всех других явлений реального мира не ради них самих, а как воспринимаемые поверхности, созданные для представления их эзотерической близости с изначальными идеалами.
La mort du fossoyeur : La mort du fossoyeur («Смерть могильщика») Карлоса Швабе представляет собой визуальный сборник символистских мотивов. Смерть и ангелы, нетронутый снег и драматические позы персонажей — все это выражает символическое стремление к преображению «где угодно, за пределами мира».”
Символистский стиль часто путали с декадансом, и к концу 1880-х годов термины «символизм» и «декаданс» стали восприниматься как почти синонимы. Хотя эстетику стилей можно считать в некотором роде схожей, эти два стиля остаются разными. Символисты подчеркивали мечты, идеалы и фантастические сюжеты, в то время как декаденты культивировали précieux , орнаментированные или герметические стили и болезненные предметы. Художники-символисты оказали большое влияние на экспрессионизм и сюрреализм в живописи, два движения, которые происходят непосредственно от собственно символизма.
Арлекины, нищие и клоуны «Голубого периода» Пабло Пикассо демонстрируют влияние символизма, особенно Пюви де Шаванна. В Бельгии символизм стал настолько популярен, что его стали рассматривать как национальный стиль: статичная странность художников, таких как Рене Магритт, может рассматриваться как прямое продолжение символизма. Работа некоторых художников-символистов, таких как Ян Тороп, напрямую повлияла на криволинейные формы модерна.
The Caress : The Caress бельгийского символиста Фернана Кнопфа
Модерн
Ар-нуво был международным стилем искусства и архитектуры, который был наиболее популярен в 1890–1910 годах.
Цели обучения
Опишите происхождение и характеристики стиля модерн
Основные выводы
Ключевые моменты
- Ар-нуво был международным стилем искусства и архитектуры, который был наиболее популярен в 1890–1910 годах. Название «ар-нуво» в переводе с французского означает «новое искусство». Истоки ар-нуво лежат в сопротивлении художника Уильяма Морриса загроможденным композициям и тенденциям возрождения XIX века.
- Реакция на академическое искусство XIX века, модерн был вдохновлен естественными формами и структурами, примером которых являются изогнутые линии, асимметрия, природные мотивы и замысловатые украшения.
- Модерн считается «тотальным стилем», что означает, что он проник во многие формы искусства и дизайна, такие как архитектура, дизайн интерьера, декоративное искусство и изобразительное искусство. Согласно философии стиля, искусство должно стремиться быть образом жизни.
Ключевые термины
- Модерн : Модерн — это международная философия и стиль искусства, архитектуры и прикладного искусства, особенно декоративного искусства, которые были наиболее популярны в 1890–1910 годах.
- japonisme : Влияние японского искусства и культуры на европейское искусство.
- синкопировано : разнообразные музыкальные ритмы, которые появляются неожиданно.
Фон
Ар-нуво — это международный стиль искусства и архитектуры, который был наиболее популярен в 1890–1910 годах нашей эры. Название Art Nouveau в переводе с французского означает «новое искусство». Реакция на академическое искусство XIX века, он был вдохновлен естественными формами и структурами не только в цветах и растениях, но и в изогнутых линиях.Это также считается философией мебельного дизайна. Мебель в стиле модерн структурирована в соответствии со всем зданием и является частью повседневной жизни. Модерн был наиболее популярен в Европе, но его влияние было глобальным. Это очень разнообразный стиль с частыми локализованными тенденциями.
Стиль модерн: Барселона : Дом Бальо, построенный уже в 1877 году, был реконструирован Антони Гауди и Хосеп Мария Жухоль в стиле барселонского модерна в 1904–1906 годах.
До того, как термин «модерн» стал распространенным во Франции, более частым обозначением был le style moderne («современный стиль»). Maison de l’Art Nouveau — так называлась галерея, основанная в 1895 году немецким арт-дилером Самуэлем Бингом в Париже, в которой было представлено исключительно современное искусство. Слава его галереи возросла на Всемирной выставке 1900 года, где он представил скоординированные инсталляции современной мебели, гобеленов и предметов искусства. Эти декоративные экспозиции настолько прочно ассоциировались со стилем, что название его галереи впоследствии стало широко используемым термином для всего стиля.Точно так же Jugend (Молодежь) был иллюстрированным еженедельным журналом об искусстве и образе жизни Мюнхена, основанным в 1896 году Георгом Хиртом. Югенд сыграл важную роль в продвижении стиля модерн в Германии. В результате Jungenstil , или Молодежный стиль, стало немецким словом для обозначения стиля.
Истоки модерна
Истоки ар-нуво лежат в сопротивлении художника Уильяма Морриса загроможденным композициям и тенденциям возрождения XIX века.Его теории помогли начать движение в стиле модерн. Примерно в то же время плоская перспектива и яркие цвета японских гравюр на деревянных блоках, особенно Кацусика Хокусая, оказали сильное влияние на формулировку стиля модерн. Японизм, который был популярен в Европе в 1880-е и 1890-е годы, оказал особое влияние на многих художников своими органическими формами и отсылками к миру природы.
Хотя модерн приобрел отчетливо локализованные тенденции по мере увеличения его географического распространения, некоторые общие характеристики указывают на его форму.В описании настенной подвески Германа Обриста Cyclamen (1894), опубликованной в журнале Pan, она описывалась как «внезапные резкие изгибы, вызванные ударом кнута», что стало хорошо известно во время раннего распространения ар-нуво. Впоследствии термин «хлыстовая травма» часто применяется к характерным кривым, используемым художниками в стиле модерн. Такие декоративные «хлыстовые» мотивы, образованные динамическими, волнистыми и плавными линиями в синкопированном ритме, встречаются во всей архитектуре, живописи, скульптуре и других формах дизайна в стиле модерн.
Модерн как целостный стиль
Модерн теперь считается «тотальным стилем», что означает, что его можно увидеть в архитектуре, дизайне интерьеров, декоративном искусстве (включая ювелирную мебель, текстиль, бытовое серебро и другую утварь и освещение) и в изобразительном искусстве. Согласно философии стиля, искусство должно стремиться быть образом жизни и, таким образом, охватывать все части. Многие европейцы могли жить в доме в стиле модерн с мебелью в стиле модерн, столовым серебром, посудой, украшениями, портсигарами и т. Д.Таким образом, художники хотели объединить изобразительное искусство и прикладное искусство даже для утилитарных предметов.
Письменный стол и стул. Автор Гектор Гимар, 1909–12. : Изогнутые змеевидные изделия из дерева, которые можно увидеть на этом столе, характерны для стиля модерн, который часто черпал стилистическое влияние из мира природы.
Ар-нуво в архитектуре и дизайне интерьеров избегает эклектических стилей возрождения XIX века. Дизайнеры в стиле модерн выбрали и «модернизировали» некоторые из наиболее абстрактных элементов стиля рококо, такие как текстуры пламени и ракушек.Они также выступали за использование очень стилизованных органических форм в качестве источника вдохновения, расширяя свой естественный репертуар за счет использования морских водорослей, трав и насекомых.
Дверной проем на площади Этьена Перне, 24 (Париж 15e), 1905 год, автор — архитектор Альфред Вагон. : Асимметричное и криволинейное влияние природного мира снова проявляется в металлических изделиях этого дверного проема на площади Этьена Перне в Париже.
В живописи в стиле модерн, двумерные фигуры были нарисованы и напечатаны в популярных формах, таких как реклама, плакаты, этикетки и журналы.Японские гравюры на деревянных блоках с их изогнутыми линиями, узорчатыми поверхностями, контрастными пустотами и плоскостью визуальной плоскости также вдохновили живопись ар-нуво. Некоторые модели линий и кривых стали графическими клише, которые позже были обнаружены в работах художников из многих стран мира.
Юбка-павлин Обри Бердсли, 1893 год : Обри Бердсли — художник, известный своими плакатами и часто ассоциирующийся с модерном из-за использования сложных декоративных узоров и широких криволинейных линий.
Что такое модернизм?
Что такое модернизм?
Модернизм — это период в истории литературы, начавшийся примерно в начале 1900-х гг. продолжалось до начала 1940-х годов. Писатели-модернисты в целом восстали против четких повествование и шаблонные стихи 19 века.Вместо этого многие из них сказали фрагментированные истории, отражающие фрагментированное состояние общества во время и после Первая Мировая Война.
Многие модернисты писали вольным стихом, включая многие страны и культуры. в своих стихах. Некоторые писали, используя множество точек зрения или даже используя «поток сознания». стиль. Эти стили письма еще раз демонстрируют, как разрозненное состояние общества сказалось на работе писателей того времени.
Эмили Дикинсон и Уолт Уитмен считаются отцом и отцом движения. потому что они оказали самое непосредственное влияние на ранних модернистов. Через некоторое время после их смерти поэты-имажинисты стали приобретать все большее значение. Канадский университет Толедо Центр имеет богатую коллекцию стихов и критических произведений той эпохи.
Поэты-имажинисты обычно писали короткие стихи и тщательно подбирали слова, чтобы что их работа будет насыщенной и прямой.Движение началось в Лондоне, где группа поэтов встретилась и обсудила изменения, происходящие в поэзии. Эзра Паунд вскоре встретил этих людей и в конце концов познакомил их с H.D. и Ричард Олдингтоном в 1911 году. В 1912 году Паунд представил свою работу в журнал Poetry. После H.D. имя, он подписал слово «Imagiste», и это было, когда Imagism был публично запущен. Двумя месяцами позже Poetry опубликовала эссе, в котором обсуждаются три пункта, которые Лондонская группа согласилась.Они посчитали, что при написании должны применяться следующие правила: поэзия:
- Непосредственное отношение к «вещи», будь то субъективное или объективное.
- Не использовать ни одного слова, которое не способствует презентации.
- Что касается ритма: составлять в последовательности музыкальных фраз, а не в последовательности метронома.
В выпуске следующего месяца двухстрочное стихотворение Паунда «На станции метро». был опубликован. В дополнение к ранее опубликованным работам Алдингтона и Х.Д., он иллюстрирует принципы имажинизма в том, что он прямой, написан точными словами, и имеет музыкальный тон, не зависящий от конкретного ритма:
На станции у метро
Видение этих лиц в толпе;
Лепестки на мокрой черной ветке.
За следующие четыре года были опубликованы четыре антологии поэзии имажинистов. Они включали работают люди из этой лондонской группы (Паунд, Ф.С. Флинт, Х.Д. и Олдингтон), но они также содержали работы Эми Лоуэлл, Уильяма Карлоса Уильямса, Джеймса Джойса, Д.Х. Лоуренс и Марианна Мур.
Первая мировая война разразилась вскоре после расцвета имажинизма. Некоторые поэты, такие как Алдингтон, были призваны служить стране, и это затруднило распространение имажинизма, поскольку нехватка бумаги в результате войны.В конце концов, военные поэты, такие как Уилфред Оуэн популярность росла по мере того, как люди переключили свое внимание на состояние мира.
После окончания войны чувство разочарования росло, и такие стихи, как Т. С. Элиот, «Бесплодная земля» показала, как изменилась поэзия. Это печально известное стихотворение содержит различные рассказы и голоса, которые быстро меняются от одной темы к другой. Этот стиль Поэзия сильно отличалась от медленной и сосредоточенной поэзии имажинистов.Посетите эту ссылку, чтобы прочитать стихотворение полностью.
В течение нескольких лет многие писатели-модернисты переехали за границу. Был интересный экспатриант сцена в Париже, в которой участвовали Паунд, Джеймс Джойс, Гертруда Стайн и Мина Лой. Эти писатели проводили и посещали литературные салоны. Поэты, такие как Э.Е. Каммингс, Харт Крейн, и Уильям Карлос Уильямс тоже время от времени посещал эти салоны.
Не все модернистские поэты следовали за писателями, которые вносили революционные изменения. в мир поэтики.Марианна Мур, например, писала стихи и Роберт Фрост однажды сказал, что написание произвольных стихов «все равно что играть в теннис без net ». Кроме того, писатели, набравшие популярность к концу модернистской эпохи были вдохновлены менее экспериментальными поэтами, такими как Томас Харди и У. Йейтс.
К 1950-м годам на передний план вышло новое поколение поэтов постмодерна.Добавление «сообщения» перед словом «Модерн» показало, что этот новый период отличался от того, до этого, но находился под его влиянием. Модернистские идеи имажинизма и работы Уильям Карлос Уильямс, например, продолжает оказывать большое влияние на писателей. сегодня.
Разница между современностью и модернизмом
Автор: Admin
Современность против модернизма
Современное относится ко всему новому и современному, в отличие от старых и устаревших вещей и практик.Все современное — это то, что в моде и моде, например, современная музыка, современная живопись и современная одежда. Мы говорим о современной истории, которая связана с недавним временем, современным образом жизни, современными технологиями и современным образом мышления. Однако есть два слова, относящиеся к этому слову «современный», которые могут сбивать с толку. Это модернизм и современность. Многие люди считают эти два слова одним и тем же или синонимом. Однако это не так, и есть различия между модерном и модернизмом, о которых и пойдет речь в этой статье.
Современность
«Современность» — широкий термин, охватывающий несколько концепций, но, в частности, он относится к историческому периоду, когда произошла эволюция капитализма и индустриализации. Период времени, который известен рациональным и секулярным мышлением, характеризуется как современность. Хотя современность близка по смыслу к модернизму и всему современному, о ней говорят в основном с точки зрения определенного периода времени, который, как говорят, начался в 15 веке и продолжается до настоящего времени.Современность не имеет ничего общего с философией и ограничивается социальными отношениями, в основном между капиталистами и рабочим классом. Взлет и падение коммунизма, марксизма и всех других связанных интеллектуальных движений охватываются концепцией современности. Для целей анализа и глубокого изучения период, называемый современностью, разделен на три отдельные фазы: ранняя современность (с 1453 по 1789 год), классическая современность (с 1789 по 1900 год) и, наконец, поздняя современность, которая, как говорят, началась. в 1900 году и длилась до 1989 года.
Модернизм
В целом человек, которого можно считать современным, имеет атрибуты, отражающие модернизм. Модернизм отражается в поведении, мыслях и действиях. Однако термин модернизм возник в основном по отношению ко всем художественным и культурным движениям, которые возникли в первую очередь в ответ на широкомасштабные изменения в обществе в связи с индустриализацией в 19 и 20 веках. Развитие городов с мощными индустриальными империями и миграция из сельской местности в города характеризует концепцию модернизма.Войны в Европе и две мировые войны сформировали мир и ускорили возникновение современного мира. Модернизм породил самосознание и осознание, что нашло отражение в творчестве выдающихся художников того времени. Их новаторские работы, вдохновлявшие поколения, считались авангардными до тех пор, пока не появилась концепция модернизма.
В чем разница между модерном и модернизмом?
• Современность и модернизм, хотя якобы связанные концепции, имеют тонкие различия, и время от времени модернизм выступает против современности.Это не просто рефлексия общества на все движения, возникающие из современности.
• Современность — это, в частности, период времени, который разделен на три отдельные фазы, чтобы описать возникновение капитализма, индустриализацию и, наконец, современный мир, сформировавшийся в результате разделения труда.
• Модернизм отражается в развитии и принятии новых технологий, которые качественно меняют жизнь.
• Самореализация и самосознание лежат в основе современности.
• Современность — это период времени, тогда как модернизм относится к тенденциям в искусстве, культуре и социальных отношениях, которые характеризуются развитием современного мира.
W. W. Norton & Company
W. W. Norton & Company | Антология западной литературы НортонаПерейти в меню раздела | Содержание | Меню громкости
Двадцатый век, модернизм и современность
Обзор
Общество и культура
- Двадцатый век представляет собой культурный период, когда люди не только отвергают прошлое, но и ставят под сомнение саму основу знания и рассматривают возможность того, что знания и концепции, которые когда-то считались фиксированными и объективными, вместо этого постоянно меняются и субъективны.
- Философы и мыслители, такие как Фридрих Ницше, Анри Бергсон, Карл Маркс и Зигмунд Фрейд, бросили вызов науке девятнадцатого века и уверенности позитивистов в ее способности объяснять как физический, так и социальный мир в совершенно рациональных терминах.
- Первая мировая война оказала сильное влияние на ее последствия, заставив европейцев пересмотреть сами свои системы убеждений и привела к повсеместному недовольству властями, которые, как многие полагали, были движимы жадностью, классовой эксплуатацией и жаждой власти.
- Растущий интерес к психологии под влиянием теорий Зигмунда Фрейда способствовал новому акценту на внутренней реальности индивидов, важности личности и отчуждению личности в современном обществе.
- Новые исследования взаимосвязи между реальностью и явлением привели к философии феноменологии и экзистенциализма, представленной в философских трудах Мартина Хайдеггера и Жан-Поля Сартра.
- После Второй мировой войны, подъема коммунизма, постепенного распада колониализма и экспоненциального развития технологий экзистенциализм процветал в 1940-х и 1950-х годах, когда люди изо всех сил пытались найти смысл во все более фрагментированном и запутанном мире.
- Растущее осознание множества других культур, мировоззрение которых отличается от традиционных европейских или американских, подорвало допущения о «культурной ограниченности» и привело к плюралистическим и постколониальным взглядам.
Литература
- Адаптируя теории лингвистов и философов, таких как Фердинанд Соссюр и Людвиг Витгенштейн, писатели двадцатого века начали рассматривать язык как «игру», создавая фрагментированные словосочетания, неоднозначные значения и экспериментальные формы.
- Дадаизм и сюрреализм были одними из самых влиятельных литературных движений начала двадцатого века. Целью дадаистов было отменить ограничения власти, нарушив условности литературы и искусства; Целью сюрреалистов было выразить бессознательное посредством написания сновидений, автоматического письма и фантазий.
- Хотя термин «модернизм» обычно относится к коллективному литературному направлению начала двадцатого века, он более точно применим к группе британских и американских писателей, таких как Джеймс Джойс, Эзра Паунд и Т.С. Элиот, которые создавали тщательно сформулированные изображения. в разговорной речи.
- В более широком смысле слова «модернизм» писатели начала двадцатого века разрушили традиционную сюжетную структуру повествований, экспериментировали с языком, фрагментировали идеи, играли с изменяющимися перспективами и обратили застенчивое внимание на саму природу языка как такового. .
- Несмотря на эксперименты со стилем и содержанием, ранние модернисты продолжали надеяться, что через искусство они смогут заново открыть для себя смысл и единство, утраченные в современном обществе. К середине века все большее число писателей, которых часто называют постмодернистами, отказались от этой надежды и вместо этого начали создавать литературу, которая прославляет, а не сетует на неспособность языка и литературы привнести выводы и смысл в современный опыт.
- Писатели постмодерна в шутку создают намёки, противоречия, мета-рассказы и лингвистические игры, чтобы разрушить ожидания читателя от фиксированных, объективных ссылок.
- В конце двадцатого века, когда геополитические границы размылись и сместились, возросшее признание разнообразия культурных идентичностей в этнических, гендерных и сексуальных вопросах привело к соответствующему плюрализму в письменной форме, отражающему весь спектр человеческого разнообразия.В эти новые перспективы входит внимание к усилиям постколониальных культур по развитию сознания отдельно от сознания их колонизаторов.
Выберите раздел:
Том 1
Том 2
Современное искусство и модернизм: критическая антология — 1-е издание
Содержание
* Введение Вступительные тексты * Модернистская живопись Клемент Гринберг.* Историческая интерпретация сэра Карла Поппера. Современная жизнь, модерн и модернизм * Салон 1846 года: о героизме современной жизни Шарль Бодлер. * Салон 1859 года: современная публика и фотография К. Бодлер. * Эдуард Мане Эмиль Золя. * Импрессионисты и Эдуард Мане, Стефан Малларм. * Lexposition des Indpendants 1880 г. Дж. К. Гюисманс. * От Гогена и Ван Гога до классицизма Мориса Дени. * Чанн М. Дени. Развитие модернизма * Эстетическая гипотеза Клайв Белл.* Долг Чанну Беллу. * Эссе по эстетике Роджер Фрай. * Французские постимпрессионисты Р. Фрай. * Живопись американского шрифта К. Гринберг. * Коллаж К. Гринберга. * Мастер Лгер К. Гринберг. * Три американских художника Майкл Фрид. * Что такое революционное искусство? Герберт Рид. * Барнетт Ньюман Дональд Джадд. Абстракция * От мольберта к машине Николай Тарабукин. * О беспредметной живописи Бертольд Брехт. * Красота необъективности Хилла Ребай. * Иллюзия и визуальный тупик Эрнст Гомбрих.Экспрессионизм * Абстракция и эмпатия Вильгельм Воррингер. * Экспрессионизм Германа Бара. * Абстракция и мистицизм Шелдон Чейни. * Экспрессия и общение Э. Гомбрич. * Искусство и расследование Нельсон Гудман. Искусство и общество * Развитие современного искусства Юлиус Майер-Грефе. * Литература и революция Лев Троцкий. * Автор в роли продюсера Уолтера Бенджамина. * Произведение искусства в эпоху механического воспроизводства В. Бенджамин. * Poetic Evidence Поль Элюар. * Популярность и реализм Б. Брехта. * Социологический подход: концепция идеологии в истории искусства Арнольд Хаузер.* Лгер Джон Бергер. * История искусств и классовая борьба Никос Хаджиниколау. * По социальной истории искусства Т. Дж. Кларк. * Предварительные сведения к возможному лечению Олимпии в 1865 г. Т. Дж. Кларк. * Прачка во французской культуре конца XIX века Юнис Липтон. * Les Donnes Bretonnantes: La Prairie de la Reprsentation Фред Ортон и Гризельда Поллок.
.